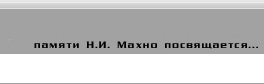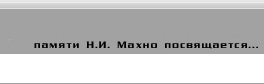|
СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
ОБВИНЯЕМОГО БЕЛАША ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА
28 декабря 1937 г.
гор Краснодар
Рождения 1893 года, уроженец села Ново-Спасовки, Бердянского района, Днепропетровской области, УССР, грамотный, беспартийный, украинец, гражданин СССР, бывший начштаба банды Махно, судим по ст. 58-4 УК на три года в 1924 году. Перед арестом работал при мастерской союза охотников гор. Краснодара.
На путь контрреволюционной деятельности против Советской власти я стал с 1919 года. Я участвовал в набатовском и махновском движении. В последнем был начальником штаба. В 1921 году в сентябре был арестован Соввластью. В 1924 году досрочно был освобожден из ссылки. Возвратясь из ссылки и будучи в ссылке не порывал связей с анархистами до последнего дня. Так, в 1924 году в г. Харькове за участие в контрреволюционной работе анархистов, выразившейся на целом ряде заводов в забастовках (З-д ВЭК, паровозный, депо) в попытке овладеть профсоюзными организациями "итальянки", пропаганда синдикалистских идей, переход предприятий в рыночные синдикаты, организация подпольной печати, увязка этой работы федерации с анархо-эмигрантами ВОЛИНЫМ, АРШИНОВЫМ, МРАЧНЫМ, МАХНО и проч. и проч. и, наконец, организации, вернее воскрешения принципов и идей "Набата", т. е. организации разрозненных анархистов в одно целое "Набата". В ряде заводов были люди: ДОЛИНСКИЙ Ефим вел работу на заводе ВЭКа, кроме него там был ОВЧИННИКОВ (забыл его имя и отчество) ныне в Харькове и еще несколько фамилий, которых не припомню. В паровозном з-де был ХИШНЯК, на южн. жел. дорогах в Управлении был каторжанин Хижняк (ныне в Харькове) и Иванов 2-й (тоже в Харькове), в технологическом институте), ВОЛОДАРСКИЙ Саша (ныне в Харькове) и Борис НЕМЕРИЦКИЙ со своей женой Лидой (ныне в Симферополе). Кроме того, НЕМЕРИЦКИЙ вел работу среди служащих центроархива. ЗАХАРОВ Петр Порфирович вел работу среди артелей (кустарных) и служил в Правлении промысловой Кооперации (ныне вероятно, вернулся из Архангельска с ссылки в Харьков). Во всей работе ЗАХАРОВУ помогал ЦЕННИК Григорий, как по части разложения советской кооперации, так же по части самостоятельной работы в Коммунхозе, где он работал электротехником. РЕЙДМАН Юда, работая в типографии, кроме того, что вел анархическую работу по вербовке, старался создать свою нелегальную типографию. Каторжанин АВЕНИР тогда работал вожатым на трамвае и проводил работу среди рабочих и служащих дороги.
В основном группа имела некоторый успех в части забастовок и срыва норм выработки, лучше обстояло дело с вербовкой молодежи и старых рабочих. С типографией дело обстояло хуже, ее не успели организовать, а РЕЙДМАН не достал шрифт. Потуги выпустить листовку общего характера и другую в части поддержания "рабочей оппозиции" Шляпникова – остались несбыточным желанием. Кроме того, ЗАХАРОВ руководил анархической работой в Курске, где жил и работал его племянник (ныне не знаю, где он). В целом группа имела нелегальные связи с заграницей, куда постоянным курьером ездил ПОМЕРАНЕЦ (ныне в Москве). За границу, особенно в Польшу, посылались информация анархической деятельности самой группы. В последнем письме, которое было отправлено тогда (апрель 1924 г.) (мне его читали), в основном было написано, что группа, не покладая рук, работает по воспитанию молодежи, организует противодействие Советской власти, будит сознание эмигрантов к той же работе и просили "сколько-возможно" посылать в Харьков из Берлина и Парижа литературы, информации, пропагандировать среди рабочего движения "Набата", как "единый анархизм". Кроме того, федерация имела контакт в работе с максималистами (фамилии их не помню), с левыми эсерами. Имела связь с отдельными анархистами Киева (Ольга ТАРАТУТА - ныне в Москве), которая имела явку на польском кордоне, где-то в районе Ровно, и через которую шла связь с эмигрантами (с Одессой, Москвой, Ленинградом, Курском, Воронежем и другими городами). Это относится к периоду 1924 года. Мне неизвестно что получала федерация из-за кордона, но ЛИПОВЕЦКИЙ и РЕЙДМАН получали из Америки на работу деньги.
Когда я вышел на свободу на поруки 6-ти анархистов – НЕМЕРИЦКОГО, РЕЙДМАНА, ЦЕННИКА, ДОЛИНСКОГО и жен НЕМЕРИЦКОИ и ДОЛИНСКОЙ – федерация не поручала мне никакой работы, давали отдохнуть после 3,5-летней сидки. По ее почину, главным образом, по почину ЖАРОВА, ХИЖНЯКА, АВЕРИНА и ЦЕННИКА намечался съезд анархистов (на июль - август 1924 г.) Украины. У нему федерация приурочивала мое непосредственное участие. На съезд предполагалось привлечь не только анархистов, но попутчиков из махновского лагеря, оставшихся командиров, как-то: Алексея ЧУБЕНКО (ныне в Харькове), Василия ШAРOBCKOГO (ныне, кажется, в Белой церкви на Киевщине учительствует), БЕЛОЧУБА из Старого Крыма - под Мариуполем, Власа ШAРOBCKOГO (ныне кажется, на заводе Каменском Днепропетровской области), СПИЛИВОГО (начальник артиллерии махновщины, ныне вероятно, в с. Петропавловке Днепропетровской области, КАРЕТНИКОВА Пантелея (ныне, вероятно, в Одессе).
Однако съезду не дано было свершиться. В момент, когда Харьковская федерация собиралась приглашать, были произведены аресты до 70 человек окончившиеся тем, что нас, шесть человек: меня, ЛИПОВЕЦКОГО, ДОЛИНСКОГО, НЕМЕРИЦКОГО, РЕЙДМАНА и ВОЛОДАРСКОГО – отправили в ссылку, первых со мной в Ташкент на 3 года, а вторых в Нарымский Край. Остальные оставались в Харькове. После того федерация проводила начатую работу, но с меньшим энтузиазмом. Она от поры до времени посылала в ссылку собранные у рабочих деньги, имела связи с заграницей, особенно с Варшавой, непосредственно с анархистом ЧЕРНЯКОМ.
Будучи в ташкентской ссылке на мое имя шла незначительная помощь из Нью-Йорка от анархо-синдикалистов. Проводилась незначительная с ними переписка, особенно с Марком Мрачным, который тогда был в Берлине. Получил под новый год 1925-й открытку из Парижа. Ее содержание примерно – "C Новым годом тебя, Виктор, и остальных". Вся открытка была написана именами и фамилиями. ВОЛИН, АРШИНОВ, НЕСТОР, ГАЛИНА, МРАЧНЫЙ и ряд других. На эту открытку я не помню, что б отвечал. Ответы были исключительно бытового характера, так как письма шли открытой почтой. Против этой почты возражала РЕВЕКА (ныне в Харькове). Она была сторонницей письма посылать нелегально через явку на границе Польши Ольги Таратуты минуя Харьков, но против этого возражали ДОЛИНСКИЙ, ЛИПОВЕЦКИЙ и я. Возражал я потому, что подобная корреспонденция могла легко пройти мимо меня. Однако, несмотря на это, РЕВЕКА имела связи с Варшавой, непосредственно, о чем говорил мне Изя Школьников. Эта РЕВЕКА возбудила против меня подозрение в ренегатстве. К тому моменту, осенью 1924 года, в Ташкент из Москвы приехали aнархо-индивидуалисты: Марк Нахамкис (брат Стеклова) Николай и Изя Школьниковы и к этому же моменту Набатовская организация Ташкента была арестована и ожидала отправки в ссылку. Активным организатором Ташкентского "Набата" была Ревека, ее друг из Москвы (не помню фамилию) работавший тогда заместителем главного редактора Ташкентской газеты, и третий москвич, которого мы уже не застали в Ташкенте, литератор – фамилии не помню. Они печатали журнал "Набат", пытались издать газету, вели агитацию против Советской власти и НЭПа, устраивали особенно на жел. дороге и в трамвайном депо итальянские забастовки. Приехавшие Школьников, Нахамкис и Николай начали упорно начали агитировать нас всех начать подпольную работу путем бегства из ссылки. Ревека особенно против этого не возражала, но Липовецкий и Долинский категорически были против. Время затянулось на целый месяц, и был получен отрицательный ответ. Они же тем временем, уехали, вначале Николай, а через 2-3 недели Нахамкис, Школьников оставался в Ташкенте с нами. За год пребывания моего в Ташкенте я связался со стариком-анархистом, фамилию которого не помню. Против него особенно восстала Ревека. Однако он особенно искал со мною встречи, что в основном дало повод Ревеке заподозрить меня. С этого времени март-апрель 1925 г. она начала активно предупреждать Липовецкого, Долинского, их жен, а также пом. редактора Ташкентской газеты. С этого момента прием меня всеми ими был явно враждебен, так, например, если остальные вступали со мной в разговоры и сношения, не охотны были поддерживать через меня связи с заграницей, то Ревека была противоположна. Когда я приходил к ней на квартиру, она оставляла меня со своим мужем, а сама надутой выходила на улицу. Объяснения ни к чему не приводили, и было видно, что реабилитация моя вещь несбыточная.
Я был досрочно освобожден. Вернулся в Харьков в конце 1925 года, где оставался вплоть до моего выезда в Краснодар, т. е. до февраля 1934 года.
В течение этого промежутка времени, вплоть до 1931 года, я вел работу в аппарате Югостали, Стали и Гипроруде среди служащих и инженеров. Кроме того, по заданию организации, я два раза выезжал в махновские районы с целью выявить контрреволюционные махновские элементы, особенно командный состав. В результате этого была нащупана группа Буданова, которая открыто ставила своей целью в 1927 году свержения Советской власти на Мариупольщине. Но эта группа провалилась в своих расчетах, и в Харькове Буданов и Белочуб были расстреляны, а остальные 7-8 человек получили по 10 лет. В этот же промежуток времени был пестован и Пантелей Каретников, который имел уголовную банду и который изъял махновские ценности. Он был приговорен к высшей мере, но потом это было заменено 10 годами. Как результат этой поездки был арестован и Иван Лепетченко за то, что он в Польше посадил в тюрьму анархистов, - ему дали 10 лет.
В эту поездку я видел много махновцев, как-то: в Гуляй-Поле братьев Шаровских к Власа и Василия, Ивана Лепетченко, в 1924 году прибывшего из Польши с заданием Махно изъять его ценности, узнать настроение крестьянства, узнать, кто остался в живых из махновских командиров, связаться с ними, подготовить их к подпольной работе. Кроме них, были у меня – старший брат Лепетченко (не знаю, как его звать), артиллерийские командиры – одного кличка Явник Карпенко, другого – Каретников Пантелей, а с ним еще один махновец (фамилию не помню). Они мне устроили хорошую выпивку. Разговоры их сводились вначале о прошлом махновщины, потом о настоящем. Я имел смелость и задание говорить откровенно и возмущаться НЭПом, что де-мол при нем часть населения, особенно стоявшего близко к административному управлению, богатеет, а рабочий класс влачит свое жалкое существование, как и раньше. Разводил среди них гнусную демагогию, что надо идти в профсоюзный аппарат, обладать им и, так как там, в Гуляй-Поле, не было крупных предприятий, то на собственные сбережения рабочих постараться организовать коммуны производственного характера. Но там, где эти рабочие уже связны с предприятиями, там надо, овладев профсоюзным аппаратом, уставить такое положение вещей, при котором производство должно было давать материальных благ рабочим во многом больше чем давало государство в виде зарплаты. Эта демагогия была совершенно чужда для Шаровских, Лепетчеяковых, Карпенка, Василия и Алексея, и других. В основном вся эта публика занималась собственным хозяйством, которое было для них наиболее выгодно. Один только Иван Чучко, бывший помощник Махно, работник кооперации, был склонен, меня поддержать и (...) артдивизиона (фамилию забыл), работавший продавцом каком-то магазине. Они ухватились за мысль создания артелей и коммун по собственному уставу, но по форме анархических.
Позже я слышал от них (вторая поездка), что они пытались создать какую-то артель промысловую, но когда к ним послал союз председателя, они повели против него борьбу и были исключены из нее. Шаровский Влас, между прочим, к тому времени имел с/хозяйственную артель (лже-артель). В ней было вместо 10-ти хозяйств всего три. Она имела трактор "фордзон" и отличное хозяйство. После в эту артель вступил и Василий Шаровский. Наряду с тем, он был член Гуляй-польского сельсовета, школьный попечитель, учитель одной средней школы и кандидат ВКП(б). Однако, это ему не помешало вести анархическую работу. По его словам, он ее внес в школу, за что вскоре был выслан и исключен из партии. Он снабжал махновцев всякого рода документами, особенно по налогу, снимая с кулаков 50% его и перекладая эту часть на бедняцкие хозяйства. О своей работе он со мною беседовал тогда, и я не отрицаю того, что поддерживал советом. Вся эта публика очень скучала о былом махновском, жаловались, что их часто вызывают ГПУ в Запорожье и отрывает от работы, но ни один не верил в то, что махновщина рано или поздно при любых обстоятельствах может быть воскрешена, как массовое движение. С их слов, население разочаровано в махновщине, и, если бы среди него появился Махно, оно бы его связало и передало в руки Советского правосудия. В части того, что эта группа должна свою работу контактировать исключительно между отдельными махновцами, Шаровский Василий говорил свои убеждения, что ей нужно направить свои усилия и на пополнение ее молодежью и даже на связи с украинскими шовинистами. В первой части, как и все остальные, я лично склонялся, но ко второй – относился отрицательно. Правда, я высказал свое мнение, что не мешает знать и другие антисоветские организации, действующие в этом районе, но анархисты никогда не могут с ними вести контрреволюционную работу вместе, ибо они тогда перестали бы быть анархистами.
Из дальнейшего должно было вытекать относительно идеологического руководства анархо-махновцами в целом районе. Этот вопрос тогда не был решен, кому это должно поручить: Василию Шаровскому или кому другому. Но он обещал так же, как и Иван Лепетченко, видеть бы ваших махновцев из других сел и повести с ними на эту разговоры.
В эту же поездку 1927 г. в Новониколаевке Днепровской области я виделся с махновцем Чубенко (имя забыл). Он тогда работал секретарем райисполкома. Был кандидат ВКП. Однако, на ряду с руганью Махно, что из-за него и он терпит от Соввласти некоторые притеснения, он был не доволен Советской властью, потому что она не олицетворяла его личных анархистских убеждений. Например, он очень был недоволен частыми вызовами его в ГПУ Запорожья, ограничением хозяйственной деятельности зажиточных слоев населения, высокими налогами и непосильными планами посевов. Относительно активной работы по воспитанию молодняка духе анархизма он сам пропагандировал и, вероятно вел подобную работу с местными учителями, но мне фамилий их не называл и конкретного ничего не сказал. Он тогда в старого омещанившегося махновца не верил, а глубоко верил, в молодняк, с которого и ковал свои кадры. После того я согласился с ним и, кроме того, говорил ему, что он должен уделить еще внимание с/хозяйств, артелям, т. е. постараться их организовать по принципу анархических коммун, как пример я указывал на такую артель, кажется, "Авангард" в Басани Пологовского района Днепропетровской области. Он обещал это делать. С тех пор я не имел с ним встреч, а на мои из Харькова письма он не отвечал. От его брата Алексея Чубенко знаю, что в 1930 году он окончил в Одессе школу по бухгалтерии и находился в Сталинграде на работе с профессорским дипломом. О его контрреволюционной работе по воспитанию молодняка и организации коммун я ничего после не слышал и не знаю, проводилась ли им эта работа. Думаю, что проводилась, ибо он сам напрашивался на нее и не только в одной Ново-Николаевке, но и в целом районе.
В эту же поездку в село Покровское, где мне не удалось, ввиду отсутствия хорошо знакомых, ничего узнать конкретного, за исключением разве общего настроения крестьян.
В селе Дибривках я остановился у знакомого махновца, кронштадца, вернувшегося домой из Финляндии, кажется в 1925 г. Из махновщины он был вырван мобилизацией в Красную армию в 1920 году и попал в Кронштадт. Фамилию и имя его не помню. Тогда он был левым эсером. Он обещал пригласить ко мне махновцев-командиров с анархической психологией, но, к сожалению, в селе и их не было, а после районирования они жили на хуторах. Обещали ему их знакомые, что непременно приедут ко мне, но прошла целая неделя ожидания, и никто не появлялся. Сам же эсер в разговоре по эсеровской конкретной работе в Дибривках говорил, что "надо начинать сначала", что людей нет, они запуганы и что они пуганы и что главное – это движение обезглавлено, что он чувствует себя усталым и ни чего не делает. Там же в Дибривках были спрятаны Махно ценности, которые к тому времени были изъяты Пантелеем Каретниковым и Николаем Воробьевым (в настоящее время, кажется, работает в Запорожском НКВД).
В греческом селе, кажется, Керменчик я разыскал махновского командира батальона Мавродия, который в то время был членом ВКП и работал в Волновахском районе. Лично его не видел, но видел его брата, который меня узнал. Тогда среди греков-махновцев шла идеологическая борьба: одна часть стояла за махновский анархизм, другая – за ВКП. Победителем оказалась вторая. Этот брат (не помню имени) Мавродия был на стороне анархии. Он жаловался на НЭП что де-мол, при нем богатые хозяйства жиреют, а бедняки влачат жалкое существование.
Одно время он был в махновском культпроме, который в то время популяризировал идеи анархических коммун. До моего приезда он сколотил одну коммуну и начал организацию другой, жаловался на средства, что негде их брать, а банк не особенно охотно отпускал кредит. Первая коммуна в долгах и не сможет помочь второй. Однако она отдала часть лошадей, перевозочные средства и одну молотилку. Советскую власть особенно не ругал, так как, по его словам, в Исполкоме никого чужого не было, были греки, которые, хотя и имели партбилеты, но были пока в первую очередь греки. С ними он не был в конфликте. Относительно того, что надо повести более активную работу среди греческого населения в части пропаганды анархизма и подобных коммун, он воздерживался, чтобы не ударили его по затылку. В части вербовки своих сторонников, он заявлял, что все они будут организованы в производственные коммуны. Относительно школьников, что среди них надо вести работу, выносил убеждение, что этот номер не пройдет, ибо там учителюет бывший командир 9 греческого полка, который стал очень активным членом ВКП. Этот Мавродий тогда с некоторыми своими приверженцами, как мне говорил, ставил свою задачу очень широко. Именно, он увлекался коммунами и обещал создать их во всем греческом районе, включая Мариупольщину и Павлоградский уезд. Я целиком его поддерживал и просил держать со мной связи. Он обещал писать, но не помню, писал ли он или нет. При моем посещении Гришинского района и Сталино, слышал, что ему удалось организовать такие коммуны в Большом Янисоле, Старом и Новом Керменчике, Константиновки и точно не помню села, что в 15-18 верстах на юг от Гришино, не то Павловка, не то Новопавловка, нашел и остановился у бывшего коменданта штаба Махно, фамилию не помню, кажется, Мелешко. Вначале он принял меня с некоторым недоверием, а потом пошел на открытую. С его слов, он со своим меньшим братом вернулся с Павлоградского ДОПРа и занят своим хозяйством. Бывшие махновцы потеряли всякую веру на возврат Махно и окончательно разложились – друг друга выдают. Но среди них есть некоторые элементы, не утратившие еще способности на махновскую работу. Он называл некоторые фамилии, но сейчас я их не припомню. Среди этой публики не было ни одного способного и грамотного на культурную работу. Это было и раньше, отчего это село да и весь район попал под влияние левого эсера, который в то время выехал куда-то на Дон. Его "корешки", 3-4 человека (не помню фамилий), были в селе, но как будто не вели никакой работы. Среди них был учитель. Бывшему командиру я внушал идею организации коммун, но он вначале брыкался, мотивируя, что он на большом подозрении и что из этого ничего не выйдет. Зато его меньший брат хватился за это и обещал повести работу. По силе возможности и он говорил, что примет в этой работе участие. Главное и тот и другой обещали мне писать в Харьков, но ни одного письма я от них не получил.
В ту поездку я посетил село Федоровку, что в 30 верстах на юг от Г-Поля. Встретился там с бывшим командиром махновского отряда Подковой, по имени, если не ошибаюсь, Максим. В то время он был исключен из ВКП и был очень этим недоволен. Главным образом, он был недоволен местным исполкомом и Чубарем, который несколько месяцев тому назад как приезжал к отцу и выступил против махновцев, в том числе и Подковы как их командира. Судя по рассказам его, можно было заключить то, что и сам он заключал. Именно, всякая политика в какой-либо анархической работе, самой безобидной, хотя бы тех же коммун, обречена на неудачу. Он был склонен оставить Федоровку и выехать в Пологи, поступить в депо слесарем, что он вскоре и сделал. Оставить на свое место в Федоровке кого-либо, с его слов, он не оставлял, но говорил, что среди воспитанников с/хоз. школы, которую в свое время закончил Чубарь, есть грамотные люди (фамилии их не называл), с которыми можно договориться, и они возьмут на себя воспитание анархического молодняка. Он обещал меня познакомить с ними и даже ходил за ними, но они где-то были в районе по какой-то командировке, кажется, по хлебосдаче. Во всяком случае он обещал мне писать и завербовать на пропагандистскую работу кого-либо из них. После он писал мне в Харьков. Я ему отвечал, о завербованных ни звука, мотивируя, что он никого не видел и что ему нельзя появляться в Федоровке и что он на полулегальном положении работает в Пологах. Насколько помню, он мне говорил, что оставил ни своем месте кого-либо в Федоровке.
В Пологах виделся с Хмарским, который из эсера перекрасился в члена ВКП и занимал пост председателя профсоюз этого же жел.-дорожного узла. Построение было половинчатое. Лево-эсеровщина еще не совсем вышла из головы, и о заявлял, что очень трудно ему работать, руководимому двумя идеологиями. Однако, он прямо заявлял, что намечает помощь некоторым бывшим махновцам, особенно бывш. командиру Пологовского отряда Хижняку (ныне, вероятно, в Пологах). Эта помощь сводилась к материальной помощи, особенно в части уменьшения налога, ослабления к ним репрессий со стороны Соввласти, протаскивания их на железную дорогу, проводить в профсоюз, давать квалификационные аттестации незаслуженные. Кроме того, он непосредственно помогал деньгами и продуктами семьям махновцев. Кому конкретно, он не говорил, но я не помню. Относительно эсеровской работы он говорил, что нет к тому условий и отсутствуют кадры и что они перешли к другой практике, именно, открыто эту работу не вести, а сохранившихся людей надо влить в ряды ВКП, а там будет потом видно, что делать. Относительно Хижняка он говорил, что из анархиста он стал неплохим исполкомовцем и не ведет анархической работы. Но, между тем, вскоре после того разговора Хижняк попал в немилость Запорожского исполкома – был снят с исполкома Полог и собирался организовать в 1930 году сопротивление раскулачиваемых. Я лично тогда его не видел, потому что он был в Запорожье на совещании в исполкоме. Хмарский обещал мне передать ему мое желание завязать с ним связи, но не знаю, оставлял Пологи, Хмарский тоже обещал поддерживать со мной переписку, но ни тот, ни другой ни одного письма не послали. Больше того, я забыл некоторые фотографии анархистов Гуляй-Поля (периода 1907 – 1910 годов) и просил его послать их мне, но он так и не послал. И только когда я был у него вторично через год-полтора, он мне их отдал, извиняясь, что просто не было времени для ответа.
После Полог я посетил Басаль, что в 20 верстах юго-западней станции Пологи. Там я встретил Логвиненко. Это командир Басальского махновского отряда 18-ти командных бригад в 1919 г. Он пару месяцев тому назад, как был выгнан из Басальского исполкома, где он был председателем. Поэтому он очень был обижен и зол на Запорожский исполком. Однако он очень осторожный и прямо поставил передо мной вопрос: "Кто тебя ко мне послал?" Я ему сказал, что виделся с Мирским и он сказал мне, что ты находишься в Басали. Приехал я не лично тебя видеть, а хочу посмотреть коммуну "Авангард". Вышли, и он тогда мне поверил, что именно так. Пришлось перед ним немного отступить вначале и заявить, т. е. ответить на его вопрос – "кто сейчас я", что я сейчас себя считаю на распутье и что единственная моя забота – собрать материал по махновщине и использовать его для истории и передачи архиву революции. Но после в разговоре с ним я склонялся "хаять" некоторые мероприятия Советской власти, как например не прекращающиеся репрессии над махновцами, выносил убеждение, что нет возможности проводить какую-нибудь самую безобидную анархическую работу Он это подтвердил и заявил, что нельзя оставаться на своих старых позициях, что надо изменить тактику, путем вхождения, врастания в Советский аппарат, а потом будет видно, что делать. Работа этих лиц должна была сводиться к тому, что, замаскировываясь, они должны были игнорировать мероприятия Соввласти по части ограничения капиталистических хозяйств. В части воспитания молодняка он относился отрицательно, но очень активно ставил вопрос организации и коммун. Хвалился, что нами была создана коммуна "Авангард", но потом ругался на теперешних ее руководителей за то, что они его разоблачили и выгнали с коммуны. По его словам, эта коммуна из анархической превратилась в большевистскую и что коммунары из анархистов стали идейными большевиками. Он имел надежду организовать в Басали или Ново-Павловке свои коммуны, если только не уедет в Сталино. В части школ и молодняка говорил, что его жена учительница и он намерен это использовать в этих целях. Условились с ним иметь переписку, но на мои неоднократные письма ответа я не получал. Через год после того, я слышал от Хмарского, что Логвиненко переехал в г. Сталино.
Навестил самую знаменитую Басальскую коммуну "Авангард". В ней был председателем бывший махновский фельдшер (забыл фамилию). Все должностные посты занимались бывшими махновцами, но все они стали членами ВКП. Говорить с ними по хозяйству можно было, но говорить с ними на махновскую или анархическую тему было невозможно в виду того, что они друг другу не доверяли и боялись. Во всяком случае, они были довольны своим положением, а положение у них было хорошее. Банк отпускал кредиты. Часто их навещал и Григорий Иванович Петровский, хозяйство было образцовое, и жили они очень неплохо. Председатель заявил мне, что все его коммунары ругают махновнью, из-за которой они еще и сейчас терпят некоторые ограничения, как-то: в части увеличенной продразверстки. Говорить с ними об анархической работе было бесполезно.
Отсюда я выехал на Большой Токмак, где выросла промышленность и рабочей прослойкой накрыла махновские элементы. Здесь мне не удалось никого видеть из бывших командиров. Остановился, я не помню фамилии, у бывшего рядового махновца, которого тоже не удалось видеть, потому что был на степи, но его отец передавал, что все они вместе Паталахой погибли в боях с белыми.
Отсюда я направился в Черниговщину, а по пути завернул, не помню его названия, где жил тогда Сипливый, бывший начальник махновской артиллерии, но на хуторе мне сказали, что Сипливый 3-4 месяца назад как уехал в Донбасс на работу, отчего я его не видел. В Черниговке искал кого-либо из бывших махновских командиров, которые меня должны были знать, но ни одного не сумел найти – частью они погибли, а частью ушли на работу в Донбасс, в Сталино. Остановился у одного бывшего махновского кавалериста (рядовой), который меня не знал и с которым просто не о чем было говорить. Это мещанин. Зная село, он говорил, что некоторые командиры, оставшиеся в живых, где-то работают в Донбассе, потому что их здесь притесняют. При таком положении не было никакой возможности ставить хотя бы какую-нибудь работу.
Из Черниговки я поехал в Павловку и Ногайск. В Ногайске был у бывшего махновского командира Голика (сейчас в Бердянске председатель партизанской комиссии и член горисполкома). Тогда он занимался своим хозяйством, сеял и снимал хорошие урожаи капусты, имел наемную рабочую силу. Встретил меня очень дружелюбно, выпили, жил он тогда со своими сыновьями – один, старший, женат, другой – холост. Говорил он о том, что он на хорошем счету, что партия ему доверяет. Однако, поссорившись с Мелитопольским исполкомом по вопросу ограничения хозяйственной деятельности кулакам и о прекращении преследовании махновцев, он был жестоко наказан, путем исключения его из состава Мелитопольского исполкома. Теперь он занимается своим хозяйством и надеется восстановить себя перед Соввластью. Однако он считает себя на распутье и очень охотно и с наслаждением говорит о махновщине. Он прямо заявлял, что если бы была махновщина, он был бы первым человеком, не то что сейчас: комсомольцы его оттесняют на задний план.
В части того, чтоб превратить его частное хозяйство в коммунальное, он не давал согласия, мотивируя, что это его сбережения на старость. Очень ругал Ногайского предисполкома за то, что тот не дал ему в собственность кирпичный дом, в котором жил он. И если этот старик тогда еще колебался, не был вполне оформившимся большевиком, хотя, был членом ВКП, зато его старший сын – не помню имени – проявлял себя как истинный поборник махновни. Другой сын, комсомолец, хотел только одного – учиться, старший же в 1925-26 гг. организовал в районе Ногайска коммуну – семейную. В коллективе с 5-8 хозяйствами он сеял большие арбузы и тыквы и прочее, держал много скотины и свиней и очень дорого продавал государству семена этих растений. Шло дело хорошо, пока не вмешался отец, старый человек, который поставил дело таким образом, что коммуна распалась, а на ее месте выросла лжекоммуна семейного типа из 2-х хозяйств. Это совсем разложило Голика, и он попал в общую немилость и Бердянского исполкома. И к тому моменту, когда я у него был, он готов был на все, чтобы восстановить свое положение в исполкомах, но ему не удавалось, и он стал оголтелым критиком абсолютно всех мероприятий Соввласти. Он выражал общее недовольство, но боялся взять хоть какую-нибудь анархическую работу. Но старший его сын эту работу проводил. Кроме коммуны, возле него собиралась молодежь Ногайска, в которой он и пропагандировал анархическую деятельность. Конкретно он тогда не назвал мне ни одной фамилии, но даже среди работниц-поливальщиц (их было 10-15 человек) наполовину были анархические попутчики. Старий Голик собирался переехать в Бердянск, где, по всей вероятности, находится и сейчас. Сыновья должны были остаться в Ногайске и старший просил меня посылать ему анархическую литературу, обещая поддерживать со мной связь. Однако ввиду неимения такой литературы, я ему не посылал и не помню, получал или нет от него письма. В селе Павловке я заехал к некоему анархисту-коммунисту Павлу – по фамилии, если не ошибаюсь, Исаков. Этот Павел несколько месяцев тому назад как прибыл из Парижа, адрес к нему мне дал Иван Лепетченко, который у него был до меня и получил целый ряд писем, аршиновскую "историю" махновщины, и анархические в Париже журналы. Этот Павел жил в тесном кругу с Аршиновым, Молиным, Махно и другими. Сам он портной. Приехал в Россию на жительство. Успел набрать учеников и сделать из них портных. К моменту моего у него пребывания он собирался ехать в Донбасс на руднике Щербиновский, где работал его приятель, вернувшийся из эмиграции, – фамилию его не помню. Я начал с ним разговаривать о житье-бытье в эмиграции. Он рассказал, как они с Аршиновым создавали свой журнал, как его распространяли. Теперь он изъявил желание вернуться Россию на жительство. Приехал через Одессу официально. У него тогда не было разговоров о какой-либо работе, но говорил, что он имеет с Парижем непосредственно с Аршиновым переписку, совершенно официально также ее имеет и с Америкой. Сообщал Аршинову о житье-бытье крестьянства и готов был приступить к организации, по его выражению комбеда, при котором решил открыть пошивочную мастерскую. По его словам, он часто спорил с местными большевиками по поводу махновщины, стараясь всячески ее обелять. Между прочим, с его слов, он получил немногое удовольствие приездом из заграницы и считал, что успешно можно работать анархистом, не разоблаченным в профсоюзном аппарате и среди крестьянства. Однако он собирался ехать через пару дней в Донбасс, что и сделал. Говорить с ним особенно много не приходилось, но я имел наглость критиковать некоторые мероприятия Соввласти, ввиду того, что комбеды – это накладной расход государства, что сельскохозяйственные артели, созданные Соввластью – бремя его, что они работают в убыток и что они рано или поздно распадутся. Но Павла никак нельзя было убедить. Он выдвигал идеи, что анархистам нечего начинать свое дело, а что лучше надо использовать созданное большевиками. Это значит, надо войти анархистам в артели и комбеды, а они имели тогда свои некоторые хозяйства, врасти в них, захватить в свои руки руководство и заниматься хозяйственно-политической работой. Там лучше будет поставить воспитательную работу, легче будет иметь средства. Часть средств он считал нужным отправлять в Париж Аршинову для усиления печати, которую через Одессу, по его словам, можно было оттуда получать. Для меня очевидно было, что Исаков приехал в Россию не потому, что хотел вернуться на жительство, а потому, что у него от эмигрантов, а быть может, и от парижской контрразведки, были определенные задания – влить в комбеды и артели своих людей, вести под маской легальное хозяйство и деньги посылать в Париж анархоэмигрантам, а оттуда получать литературу. Больше того, и мне казалось странным, что Исаков не исключал необходимость охватить анархистами не только советское хозяйство, но и административное управление. Я ему как анархист возразил, но он стоял на своем, мотивируя, что в Париже есть определенное решение по этому вопросу: "Надо освоить эти учреждения и повернуть их на путь анархических безвластных хозяйственно-культурных центров". Я говорил ему, что подобная проблема основана на фантазии и что она в самом начале будет разбита. Но он стоял на своем. Фактически не договорившись в этом вопросе ни к чему, я обещал побывать у него на Щербиновском руднике. Он обещал написать Аршинову и Волину о нашей встрече. После говорил, что писал, но к тому моменту, как я с ним виделся вторично, по его словам, ответа не получал. Он обещал бывать в Харькове у меня, если не устроится на работу в Щербиновке, но не был, потому что он там устроился.
От него я поехал в Дмитриевку искать там бывших махновцев и командиров, но их там не нашел. Случайно встретился с Григорием Масленниковым, с которым был знаком с детства. Он был приказчиком в магазине Суворова. Он никакого отношения к анархизму не имел. Через него я узнал, где живет бывший командир. Оказалось, что он давно убит, а остался его брат, с которым я в 1914 году работал в имении Коранскова вблизи Великокняжеской. Он тогда был активным моим сторонником в части проведения забастовок. Но после того, по его словам, нигде не участвовал и, хотя и симпатизировал анархистам, но сам работы не проводил. Он возмущался комбедами, что они отбирали в свои хозяйства от кулаков лошади и инвентарь, взяли и у него пару лошадей. Но от активной анархической работы категорически отказался, обещая меня связать с более молодыми и податливыми ребятами. К одному из них послал жену, но его не было еще со степи. Рано утром он зашел, и я с ним познакомился, лежа в постели. Это 18-19-летний крестьянский парень, еще не бывший в движении. Фамилию его точно не помню, но кажется, Матросенко. Он просил меня прислать ему анархическую литературу, я обещал, но ввиду ее отсутствия не послал. Он обещал мне хорошо ознакомиться с анархизмом и стать идейным анархистом и привлекать на свою сторону молодняк и вести пока что только воспитательную работу среди молодняка.
В Новоспасовке ко мне пришли бывшие командиры, передовые махновцы. Среди них Гончаренко Павел, Вдовченко (не помню имени), Тарасенко Сергей, Трикоз Григории, Проценко, кажется, Лука, Вакай (не помню имени), Прочко Григорий, Союзный Николай и некоторые другие – не помню фамилий. Среди этой публики выдавался Павел Гончаренко бывший командир кавполка, сам анархист, а тогда был членом Носпасовского сельсовета. Активную анархическую работу он тогда не вел, но довольно активную помощь оказывал "обиженным махновцам". Эта помощь сводилась им к уменьшению налогов, выдаче недостойным махновцам партизанских билетов, помощи семье расстрелянного командира махновского корпуса Вдовиченко. По его инициативе была организована одна, затем другая коммуна, куда исключительно вошли вдовы махновцев. Культурно-воспитательной работы среди молодежи, по его словам, он не вел, но думал об этом и обещал, что он постарается это сделать. Он был ярым сторонником влить в комсомол свою молодежь с тем, чтобы превратить последний в анархическую организацию. Все его планы мною не возражались. Он заикался о более "реальных вещах", как-то: использовать всеобуч для того, чтобы там подготовить на "случай нужды", а эта нужда, по его словам, будет на следующий день войны капиталистического Запада с СССР. Вначале я возразил, но он настаивал. По его теории выходило, что капиталистический Запад во много сильнее СССР и как только вспыхнет вооруженный конфликт, СССР непременно будет бит. Партизанство поэтому и нужно для того, чтобы защитить интересы рабочего класса от капитализма, а если нужно будет, то и Соввласти. Он был уверен, что в первый день борьбы с Соввластью позволит бывшим монархистам и анархистам легально формироваться против империализма, позволит открыть действия в тылу последнего, и тогда начнется новая эра практического анархизма. Между прочим, эту теорию разделял Вдовченко, Бакай – бывший тогда член ВКП и Проценко Лука, который был тогда пред. коммуны. Однако, в этом они мало успевали, ибо хозяйство коммуны привлекло их внимание во много больше, чем всеобуч. Между прочим, эти коммуны субсидировались банком, были маломощными хозяйствами и имели много долгов. Я лично возражал против всеобуча, где надо готовить анархо-военные кадры, указывал на воспитание молодежи, на организацию своих хозяйств-коммун, усиление их мощности, ликвидацию задолженности. К тому времени в Новоспасовке начали организовывать с/хоз. школу, и я им указывал, что в ней надо поставить дело воспитания курсантов. Гончаренко обещал это делать, но просил меня посылать ему литературу. Проценко – точно не помню имени, но кажется Лука – просил меня, если можно что-либо сделать в Харькове, чтобы получить на его коммуну в банке новый кредит т. к. ему было в этом отказано. Я обещал, но ничего не делал. Во всяком случае, Гончаренко и Проценко заявили, что они не будут прекращать работы и в районах по организации коммун и воспитании молодежи.
Следующим я посетил греческое село Старый Крым в 15 верстах от Мариупольского завода. Там я встретил бывшего командира махновской батареи Белочуба. Я его знал как анархиста. Накануне его сняли с председателя сельсовета, и он был настроен против кооптированного из завода Николаева. Он тогда вел свое хозяйство и отмежевывался от всякой общественной работы. В коммуны, т. е. мирное и тихое врастание анархизма в большевизм, он не верил и считал, что анархистам нечего этим заниматься, в воспитание молодежи он тоже не верил, потому что, по его словам, "очень некрасиво" анархистам воспитывать молодняк затем чтобы потом он был заключен в тюрьмы. По его мнению, надо было выждать время, сохранить старые махновские кадры и если наступит война, то эти кадры обрастут новыми, т. е. молодняком. Обрастание, по его мнению, должно было произойти в тылу белых. От него же я узнал, что где-то на хуторе проживал Буданов, но где именно, он мне не сказал. Выдавая себя за усталого и передыхающего анархиста, нетрудно было заметить, что-то неуловимое, неискреннее. Относительно Буданова он говорил, что постарается с ним повидаться и сообщить о нашем свидании. Это было нечестно и, как после выяснилось, Буданов стоял во главе заговора в районе между Мариуполем и Таганрогом. Белочуб об этом ничего не говорил мне, вероятно, потому, что не был во мне уверен. Но просил писать ему из Харькова. Переписка эта проводилась, и вскоре эта заговорщицкая группа была ликвидирована ГПУ, Буданов и Белочуб расстреляны, а остальные получили по 10 лет. На заводе "Ильича" в Мариуполе я пытался найти связь, но не успел, так как после крушения со своего велосипеда, который попал на большом ходу между встречных лошадей с телегой, я чувствовал себя весьма избитым и не мог проехать под Таганрог в Новониколаевскую станицу, где в свое время было много местных махновцев.
В Мангуше я встретился с земляком – не помню его фамилии. Он тогда кустаревал-сапожничал и был анархиствующим. Среди греков, по его словам, было трудно работать и, кроме критики местных властей, он ничего не делал. За коммуны он не брался, и моя попытка склонить его на этот путь ни к чему не приводила. Он заявлял, что греки – за индивидуальные хозяйства и против коммун, а поэтому попытка в этой части ни к чему не приведет. Молодежи у него, по его словам, тоже не было. Однако он пытался создать сапожническую артель, но в нее греческая молодежь не вступала, и он продолжал работать в одиночку. Он обещал мне писать в Хорьков, и помню, я ему несколько раз отвечал, Кроме того, я посещал село Андреевку, Поповку, Берестовую, Цареконстантиновку. Здесь не удалось ни с кем связаться в виду того, что основные кадры махновии, которые остались в живых, вышли на расселение хутора. Зато в селе, кажется, Магедово, что в 25 верстах восточнее Полог, жил тогда бывший начальник подрывной команды по фамилии Бурыша, вернувшийся в 1924 году из Польши с группой махновцев, если не ошибаюсь, Лепетченковым, Серешным и другими, фамилий не помню, но к сожалению, его не было дома, он был вызван Запорожским ГПУ.
Посетил Заливное, где ни с кем не виделся.
В Запорожье нашел Серешко, он же Сергиенко. Это бывший нач. снабжения махновской банды. Он приехал из Варшавы в 1924 году вместе с Лепетченковым, Бурышей и еще с двумя махновцами. В Запорожье он работал по кооперации и был почти доволен своим положением. Имел тогда с его слов, полное разочарование лично в Махно, ругал его. Но махновщину вспоминал не безразлично. Он ее оплакивал и жалел, что она физически погибла. На заводе и в кооперации, по словам Серешка, работали некоторые бывшие махновцы, в которых Серешко не верил. По его словам, сейчас никакая работа анархическая в Запорожье немыслима, потому что органы ГПУ настолько развиты, что всякая попытка к такой работе обречена на неудачу. Кроме того, он чувствовал себя настолько уставшим, что хотел отдохнуть. О Польше рассказывал; как они там жили, как хотели освободить из-под ареста Махно, говорил о том, что тамошние анархисты настолько разложившиеся, что похожи на простых уркачей. Говорил, что Махно освобожден по суду только благодаря вмешательству какого-то гэпээсовца, который сидел с Махно в каторжной тюрьме с 1910 года в Московской Бутырке. Он в Варшаве занимал большой полицейский пост, чуть ли не был министром. Он его и вызволил. Мало того, что помог ему оправдаться перед польским судом, но он активно помогал Махно деньгами. Отсюда вывод – Махно был на попечении Польской полиции, отсюда и офензивы, т. е. контрразведки. Меня это смущало, и вначале я заподозрил, не был ли на иждивении полиции сам Серешко, Бурыша, Лепетченко. Марк Черняк, который имел в Варшаве парикмахерскую который в 1924-25 году с СССР нелегально ушел в Польшу и другие махновцы и анархисты. Повел на эту тему разговор. Серешко говорил, что от Махно они никогда никаких денег не получали, а наоборот, работая на предприятиях, они сами его содержали. Но что Махно получил деньги от этого полицейского и от Аршинова и Волина из Парижа, говорил. Перешли они границу нелегально, чуть было не попали в руки полиции. Но перейдя ее, они явились, по их словам, в органы ГПУ. Мне только сейчас все это пребывание и возвращение из Польши махновцев вообще становится подозрительным – не были ли они завербованы офензивой. Но у меня нет достаточных подозрений, чтобы сказать "да". С Серешковым, быть может и нет ввиду его преклонных лет и усталости, но с Бурышой и Лепетченко Иваном остается загадочным. Например, Лепетченко неоднократно говорил, что он несколько раз сам то переходил нелегально из Польши в СССР, то возвращался обратного по заданию Махно. По его словам, это задание сводилось к выкачке ценности и информации о состоянии крестьянства и отношений его к Махно.
Но последний переход группы, очевидно, заявляет о себе другое, именно: группа анархистов и махновцев 6-8 человек в том числе, Черняк, Лепетченко, Серешко, Бурыма, кажется, Померанец и другие, не помню их фамилий, решила возвратиться в СССР. Где-то недалеко от кордона она остановилась на явочной квартире. Вдруг ночью или под утро нагрянула польская полиция. В результате Бурыма, Лепетченко, Серешко и, кажется, еще кто-то ускользают от ареста и благополучно переходят границу. Остальные, вероятно, были арестованы. Здесь явная провокация, но кого из этой группы – более точно определить я не мог. Можно подозревать Лепетченко и даже Серешко и Бурыму. Но можно подозревать и самого Померанца. Ибо я знаю, что когда Померанец как курьер-анархист командировался в Польшу Харьковской федерацией анархистов в марте или апреле 1924 года, о чем я писал в начале этих показаний, он был арестован польской полицией. Из Польши харьковские анархисты получили его письмо, в котором он сообщает о своем аресте и просит срочно послать ему денег для выкупа, т. е. взятки, за которые он надеялся освободиться. Насколько мне известно, федерация пыталась собрать деньги, но не успела, т. к. была арестована. Думаю, что Померанцу харьковские анархисты деньги не послали, а между тем Померанец был освобожден и сейчас находится в Москве.
Черняк Марк, тоже неоднократно ходил то в Польшу, то в СССР, но с какими целями, не знаю. Среди анархистов Черняк особенно себя не проявлял за период 1924 года. Скорее он выполнял функции курьера, а может быть, не только анархиста, но и польского шпиона – для меня это останется загадкой.
Серешко никакой работы, когда я у него бывал, не хотел на себя брать, мотивируя, что он стар и устал.
В Бердянске я никого из анархистов тогда не встретил ввиду того, что не удалось найти. Что касается первой поездки, т. е. по возвращении из ссылки, то она была ограничена. Я был тогда у матери в Новоспасовке и в Гуляй-Поле.
Если мне не изменяет память, в Новоспасовке я виделся с Гончаренковым Павлом, Вдовиченко и многими другими. Они ко мне приходили поодиночке и группами. Разговор шел исключительно о пережитом, о ссылке, ДОПРе, тюрьме о прошлом голоде и репрессии, о бывшей махновне. Но конкретно в части политической работы не говорилось. Еще тогда чувствовалось стремление их к артельному хозяйству, но ни одной артели там не было. Я пропагандировал эту идею, и с тех пор они начали шевелиться в этой области. Особого недовольства Соввластью не наблюдалось. В Бердянске помимо кого-то из местных махновцев встретил, но фамилии не помню. С ним разговоров особых у меня не было, за исключением разве того, что сообщил ему, что возвратился из ссылки и еду в Харьков.
В Гуляй-Поле ко мне пришли все те же лица, что и в первый раз: Шаровские Василий и Влас, Карпенко Алексей, Каретников Пантелей, Чучко Иван, и, точно не помню, еще целый ряд других из числа рядовых. Выпивали. Говорили о прошлом и настоящем. Публика интересовалась, возвратится ли когда-нибудь в Россию Махно. Не помню, что я им на этот счет говорил. Кроме воспоминаний о прошлом, ничего не говорили. Но опасались, что если ГПУ узнает эту встречу, может быть неприятность. Это была встреча после долгой разлуки. К тому времени, т. е. осенью 1925 г. в Гуляй-Поле никаких коммун не было. Но Василий Шаровский пытался создать. Я советовал ему это. Никакой другой установки я никому не давал и никакие цели и планы тогда не намечались.
Третья моя поездка была, если не ошибаюсь, не то через 3-4, не то через 7-8 месяцев после второй (1927-28 или 29 гг.). Из Харькова я поехал на Щербиновский рудник, где встретился на квартире приятеля Павла Исакова, не помню его фамилии. Исаков был уже тогда и работал закройщиком в одной пошивочной мастерской. Его приятель эмигрант работал на руднике в ФЗУ, обучал столярному делу молодняк. Он тогда не то вступил в комбед, не то даже был кандидат ВКП. Настроен был вполне лояльно, но с анархизмом, правда, довольно своеобразным, скорее экономизмом еще не простился. Зарабатывал неплохо, семья состояла, кажется из него самого и жены. Но Исаков переродился. Он был настроен более критически к Соввласти, чем при первой встрече. Был недоволен, что очень плохие заработки и даже жалел, что вернулся в СССР. По их словам, на Щербинковском руднике у них много из единомышленников не было и что для анархистов этот объект не подходящий. Народ, пришлый с севера, далек от политической работы. Они де, мол, сюда приехали на сезон заработать деньгу и вернуться к себе домой.
Но Исаков надеялся среди своих обойденных зарплатой портных, провести работу, вначале воспитательную, а затем и забастовку. Но его приятель его предупреждал, что забастовка здесь в России рассматривается как проявление контрреволюции. Разговоры шли, кроме того, о том, как живут и чем занимаются анархоэмигранты за границей, что сейчас неинтересно. По их словам, они Аршинову писали письма, писали и в Америку, но к тому моменту ответа не получали. Обещали мне писать в Харьков, но на мои письма я от них никакого ответа не получал.
Отсюда я выехал в Сталино, где встретился с проживающим здесь Пантелеем Каретниковым, бывшим анархо-махновцем и командиром пулеметного полка. Мне хотелось найти связь с бывшими махновцами и анархистами Сталино. Но, по словам Каретникова, он их не знал, за исключением одного Гуляйпольского пулеметчика, фамилию которого не помню. Он тогда был на нелегальном положении, и Каретников не хотел мне его показать, мотивируя, что далеко живет. Сам Каретников, по его словам, никаких политических работ не вел и заявлял, что он стал на распутье. Он тогда торговал на базаре овощами и ничего не хотел. Это ему давало на жизнь. Через него я не мог заполучить от него там связи.
Со Сталино я отправился на огнеупорно-кирпичный завод, в с. Красногоровке, от Сталино к Гришино верст 25. Там работал бывший начальник махновского бронепоезда, по фамилии не помню, и некоторые другие его соратники. Он был красным партизаном, членом ВКП. Страшный буян, эксатор и пьяница. У него была группа "красных" партизан и в Сталино, и она очень много делала неприятностей исполкому и другим организациям. Было подозрение, что она ограбила почтовый поезд. Часть ее к тому времени была изъята, часть оставалась на воле. Принял он меня с некоторой осторожностью. После некоторого времени сомнения его мне удалось развеять. Оказывается, что работает на кирпичном заводе в качестве начальника цеха, получает приличную зарплату. Говорил мне, что он очень много спасал бывших махновцев от репрессий, что некоторым дал место на заводе и что установка сводится к тому, чтобы на этом заводе вытеснить "чужаков" и поместить своих людей – бывших махновцев. Я ему лично не возражал, но считал, что это утопия, т. к. он не в состоянии собрать 500-700 человек квалифицированных махновцев. Это был разложившийся тип. В нем ничего не было большевистского и анархистского. Свои связи он мне говорил, но кто именно у него был в Сталино, на заводе и в районе – фамилий не помню. Ставить на заводе анархическую работу он отказывался, мотивируя тем, что через 1-2 месяца он командируется в Харьков в Промакадемию директоров. Об этом можно будет говорить потом – он сказал мне.
Он написал письмо своему приятелю в Гришине, я к нему поехал. Но в то время того бывшего анархиста и настоящего члена ВКП в Гришино не было, он выехал на работу в какой-то рудник. Другого никого не удалось найти из бывших махновцев. В Гришино я поехал на следующую станцию, кажется в Мечетную, и пошел в село, что в 7-12 верстах от станции. Мне, насколько помнится, никого из махновцев не довелось видеть. От некоторых крестьян только пришлось узнать, что село имеет большой партколлектив и что нет махновцев, которые бы не были охвачены партийным влиянием. Ввиду того, что на меня падало подозрение в ренегатстве со стороны анархистов, последние с 1925 по 1930 или 31 год уклонялись от встречи со мной и только в 1930-31 году, служа в Управлении Стали в Харькове, я встретился с Петром Порфирьевичем Захаровым, который тогда работал в аппарате Стали по проектированию металлургических заводов. Он там был плановиком. С этого момента харьковские анархисты: Захаров, Цемник, Худяк, Овинников, Авенир, 1-й и 2-й Иванов, Козлов и Рудзинский, видимо, решили со мною завязать отношения. Первая встреча с Захаровым в этом меня убеждает. Он вскоре привел на службу ко мне Григория Цемника и с первого же разговора Цемник заявил, что на меня были со стороны анархистов (группа Немрицкого) подозрения, что я стал на сторону ВКП, т. е. стал ренегатом, но что теперь "старики"-анархисты Харькова не намерены к тому возвращаться. Он при Захарове мне заявил – "Я не поп и не хочу тебя, Виктор, исповедывать". Я оправдывался и сводил это на простое недоразумение. Так, мало-помалу, я стал с ними встречаться. В это время на Украине проходила ликвидация кулака и его саботаж. В Харькове много было голодающих из сел. Анархи возмущались этим и говорили, что необходимо организовать подпольную печать, путем которой пропагандировать идеи сопротивления масс. Вскоре после нашей встречи Захаров перетянул меня из Стали в Гипроруд. Сюда же он поместил и анархиста-индивидуалиста Эдуарда Рудзинского бухгалтером, дочь своего приятеля, Попутчину, кажется, зовут Таня – фамилию не помню. Сюда же поместил анархиста плановика (фамилию забыл) анарха Андрея Чистякова, а примерно через год сюда стал на работу Григорий Цемник.
Захаров был главным инициатором по собиранию старых анархистов в группу и федерацию. Не только он, но и все они сильно возмущались голодающими. Да кроме того, они и сами жили почти впроголодь, несмотря на неплохое жалованье. Что не анархист, то и критик и ругальщик Соввласти. Мечта о забастовках казалась совершенно несбыточной, анархия разрозненная. Настроение у них самое бдительное. Это послужило поводом к тому, чтобы объединиться. Захаров и Цемник особенно это культивировали среди своих единомышленников. Захаров начал формировать группу. Все анархи Харькова ему не возражали. Но формировать федерацию, печать без средств – невозможное дело. На ЭКС смотрели как на несбыточное и ненужное предприятие. Решено было организовать свою плановую артель, получить в банке кредит и развернуть работу.
Захаров имел тогда небольшую комнату за городом и был членом анархо-эсеровской (из каторжан) коммуны в селе Мерефе. Захаров начал собирать членские взносы в артель, взяли устав, и Цемник должен был его оформить, но время проходило, а денег среди желающих быть в керамической коммуне Захарова не удавалось собрать. Очень частенько мы встречались с Ивановым, что работал в ОГИЗе, с Худьяковым, Захаров с Авениром. Цемник имел связи почтой с Москвой, непосредственно с харьковским учителем Каруном (имени не знаю). Видимо там анархисты поддержали почин харьковчан об организации анархического движения и, понаслышке от Цемника, кто-то из Москвы приезжал в Харьков к Авениру или Худяку. Разговоров было очень много по части организации движения, особенно на Украине. Во-первых, намечалась конференция в Харькове, во-вторых, на местах должны были организоваться группы. К тому моменту многие анархисты, вернувшиеся из ссылки, осели в большинстве своем на Украине, а именно: что мне было об этом известно, Барон – вождь синдикалистов, осел не то в Курске, не то в Воронеже со своей женой (не помню имени). Возле него осталось несколько человек. Захаров их фамилий не называл. В Елисаветграде осел Ваня Черный – тоже синдикалист, претендующий на вождя. Возле него несколько молодых парней из Николаева, бывшие в ссылке, одного из них, помню, Захаров называл Коган. Несколько девушек тоже поехали в Елисаветград и Одессу, фамилии их Захаров не называл или не знал их. В Днепропетровске остановился анархист – сам паровозный машинист, не помню его фамилии (хороший друг Василия Бобылева и Баженова), который был ранен во время обструкции на Соловках. С ним была городская публика. В Симферополе остановился на житье Немерицкий Борис со своей женой Лидой. Юда Рейдман проживал в Баку со своей женой, не помню имени. Липовецкий Борис жил не то в Киеве, не то в каком-то городе на Херсонщине. По заверению самого Захарова, возле каждого из этих анархистов должны были начаться организация групп. Рабочий класс настолько подготовлен, что среди него найдутся немало наших сторонников, эти наши ребята должны скоро обрасти анархистами, их надо воспитать и направить их деятельность на экономическую борьбу. Значит, недостает одного – это организационных принципов. Эти принципы должны были дать съезду анархистов в Харьков. Для того, чтобы найти представителей на этот съезд, нужны люди и деньги. Люди есть, а денег нет. Деньги-то и решили мы извлечь из керамического производства собственной артели. В самом Харькове Цемник налаживал работу, он имел беседу с Авенировым, работающим на заводе ВЭК. "Федерация", поскольку она еще не организована в самом городе, еще не было общего собрания, не могла допустить какую-бы то ни было работу на заводах. Но Захаров и Цемник неоднократно говорили мне относительно организации маленькой хотя бы подпольной типографии. Захаров часто просил меня написать листовку, а он возьмется ее отпечатать. Я на это не давал согласия и говорил, что я не сумею ее написать, но он просил, пока не вмешался в это Худяк, который запротестовал, мотивируя, что самая безобидная листовка может навлечь на всех анархистов репрессии, и только после этого они перестали говорить о листовке. Она не писалась и не печаталась. Было много разговоров о перспективах керамической артели. Цемник жил этим и много говорил о прошлой своей эксторской деятельности, намекая на то, что "хорошо было бы и сейчас эксакнуть какой-либо банк", но его мы не поддерживали. Тогда он говорил о прошлой террористической деятельности анархистов и жалел, что в настоящее время этот метод борьбы отсутствует, но мы всем коллективом его осуждали. Организационное собрание федерации должно было состоятся в момент, когда оформится керамическое "наше " производство. До того момента каждый из анархистов, работающих на предприятии, обязан был осторожно повести вербовку "народа" и по ходу дела определить наши предварительные силы, но мне неизвестно – что-либо по заводам проводилось это там или нет. Ни в Гипроруде, ни в другом месте этой работы я не проводил.
Захаров, отчасти и Цемник были связаны с каторжанами, главным образом, эсерами, по фамилии я их не помню.
Я позволю себе сделать некоторое отступление и вернуться немного назад.
В августе-сентябре 1921 года произошло между махновщиной событие. Махно решил перейти Польскую границу и, если не удастся в Галиции поднять восстание украинцев против поляков, то капитулироваться. Я выдвигал другую идею – капитулироваться перед Соввластью или повести с правительством разговор относительно использования нас в Турции за укрепление "Кемализма". В одном из маршей по Донбассу нас преследовала конница и сталинские автоброневики. В силу этого отряд Махно отбился от нас и ушел на Дон, а я с азовской группой повернул в Мариупольский уезд, где эту группу распустил по домам с искренним советом каждому бойцу явиться в исполком с повинной. Сам же, зная, что могу быть арестованным, решил переехать из Украины на Кубань, где думал подлечиться и пробраться в "армию" Маслака на Ставрополыцину и, если она представляет хотя какую-либо силу, хотел договориться с Совправительством войти с ней в Турцию, или распустить, если она не представляет силу. В станице Должанской я был арестован в конце сентября 1921 г. Все, что было не добитое или законспирированное из махновского, я все отдал органам ЧЕКА.
В конце января 1922 г. я решил использовать Махно в Румынии. Спорная Бессарабия должна была стать плацдармом восстания. С этой целью я написал Махно в Румынию письмо и послал его со своей "бывшей женой", а фактически вольной женщиной – махновской сестрой милосердия Евдокией (не помню фамилии). Достоверно знаю, что она благополучно перешла Советский берег Днестра у города (не помню названия), но что с ней случилось, что она не достигла цели, т. е. не проехала к Махно, до сих пор не знаю. Предполагаю, что она была либо арестована румынами и сидела, либо заболела, либо просто изменила. И только в 1927 г. летом я получил из Бухареста от нее письмо с фотокарточкой, одно или два, не помню. Где она была до этого времени – загадка. Со своей стороны я никаких писем ей не писал и по настоящий день. Помню, писал в 1926-27 гг. письмо в Бухарест махновцу Тарасенко. Но никакого ответа от него не получил. В 1924 в конце мая я был арестован со всеми анархистами в Харькове. Когда мы ожидали отправку в в ссылку, то в это время сидела в ДОПРе только прибывшая из Румынии группа махновцев, кажется человек 8-12, вместе с Левкой Задовым-Зиньковским. Мне не удалось с нею связаться, потому что их перевели в другую тюрьму. Только через полтора года я узнал, что эта группа прибыла из Румынии при следующих обстоятельствах. Левка и младший брат Данька Задовы-Зиньковские во главе обратились в румынскую жандармерию с просьбой вооружить их и пропустить на территорию СССР для поднятия восстания или для диверсии и террора против СССР. Это мне говорил сам Левка Задов по возвращении меня из ссылки в Харьков, если не ошибаюсь, в конце 1926 г. Он приехал в Харьков из Одессы по делам Донугля (его слова) остановился в гостинице и зашел вечером ко мне. Рассказал о том, как они плохо жили в Румынии, и что они все давно собирались возвратиться в СССР. Он откровенно заявлял, что не думали возвращаться, боясь кары. Но как только узнали, что я жив и на свободе (узнали из Парижа) от Аршинова, то решили немедленно действовать. Нелегально, ввиду трудности перехода границы, перейти нельзя было. Вот по почину Задова они обратились в румынскую жандармерию и предложили ей свои услуги работать на территории СССР в пользу Румынии. Жандармерия согласилась и выдала им деньги, оружие и перекинула через Днестр на Советскую территорию. Значит, они согласились работать на пользу Румынии. Это значит: диверсионные акты, шпионаж и организация восстания. Но перейдя границу, по словам того же Задова, они капитулировались в погранохране, сдали оружие и деньги, были арестованы, доставлены в Харьков и вскоре освобождены. Из этой диверсионной группы мне ни с кем, кроме Задова Левки, не удалось говорить, никого не видел. Будучи в ссылке, вероятно, в 1925 году Левка Задов послал мне из Харькова письмо. В нем он писал, что сожалеет о том, что я – "мученик свободы" – до сих пор остался анархистом, что он со своими ребятами безвозвратно перешел на сторону ВКП. Я не помню, что ему отвечал. По возвращении в Харьков, если не ошибаюсь, в 1928-29 году, Левка Задов снова меня посетил. Из Одессы он вторично приехал по делам Донугля и завернул ко мне. Я не помню нашего разговора, но помню, что он был доволен тем, что вернулся в СССР, говорил, что его брат Данька служит Начальником Погранотряда на Румынском кордоне. Относительно остальных, которые с ним вернулись, он ничего не говорил. В третий раз, кажется в 1932 году, он приехал в Харьков со своей женой. Остановился в гостинице и вечером зашел ко мне на квартиру. Разговора не помню точно, но знаю, что они остались очень недовольные. Именно, он прочел мои показания чека, где фигурировала его фамилия. Это место было напечатано в книге Кубанина "Махновщина". Левка меня за это ругал, а его жена заявила, что если бы она знала, что он так много рубал людей, ни за что бы не вышла за него замуж. В эту встречу он мне говорил, что служит в ГПУ в гор. Одессе. Приглашал приехать к нему в гост. Я не соглашался на это и никогда не был в Одессе. Правду он говорил, что служил в Одесском ГПУ или врал, не знаю. Со слов Ивана Лепетченко, который посетил меня в Краснодаре весной 1934 года, знаю, что Задов Левка служил в Одесском ГПУ, куда перетянул из Сталино Пантелея Каретникова. Думаю, не исключена возможность, что он устроил и других махновцев возле себя, о чем подтверждает Алексей Чубенко (живет в Харькове), который говорил, что, когда его брат обучался в Одесской школе, то часто виделся с Задовым, бывал у него на квартире, Задов тянул Чубенко к себе на службу, а тот не пошел. Говорил мне и Подкова Максим из Федоровки, что он, имея с Задовым переписку, приглашал и его к себе на службу. Во всяком случае, возле Задова должны быть бывшие махновцы, что подтверждает вышеприведенное. Не знаю, что за цель была собрать возле себя махновцев. Может быть, на честную работу, а может быть, на диверсионную в пользу Румынии. Больше я никогда с Задовым не встречался и не имел с ним никакой связи.
Другая диверсионная группа махновцев прибыла из Польши в том же 1924 году во главе с Лепетченко Иваном (сейчас, вероятно, живет в Мариуполе) и в составе Серешка (ныне, кажется, в Запорожье) и Бурымы (убит в 1928-29 гг. в пивной одним бывшим офицером из-за ревности) и кажется, еще 2-3-мя, фамилии которых не помню. Об этой группе я писал вначале. Повторяю сжато и сейчас, поскольку Махно был связан лично с главным полицейским Польши, получал от него деньги, что подтверждает сам Лепетченко и Серегин, оказывал ему на процессе в Варшаве определенную милость, а отсюда прямое влияние на суд – Махно был на службе в польской полиции. Если так, то и Лепетченко, неоднократно переходивший польскую границу и нигде ни разу не бывший арестованным, а тем более, в последний раз, когда был арестован Черняк, Померанец и другие – это убеждает меня согласится, что Лепетченко, а быть может, и Серегин и Бурыма – тоже шпионы и польские диверсанты. Это мое личное мнение, вынесенное еще в 1925-26 году по группе Лепетченко и других – Зиньковского.
Летом в 1933 г. я имел по Гипроруде отпуск. От довольно усиленной работы в ней у меня были сердечные схватки. Врачи советовали поехать в Мацесту, и в основном я решил это сделать непременно. Кроме того, я некоторые предметы из области военных и других предложений и изобретений начал прорабатывать еще с 1928-29 г. К этому моменту у меня находились сбережения до 15 тыс. рублей. Я решил бесповоротно заняться этими изобретениями. Мне нужен был дешевый рынок, чтобы растянуть мои средства на большой срок. Работать в учреждении же и заниматься одновременно этими изобретениями не представлялось никакой возможности. В Харькове рынок был дорогой. Я к своей поездке на лечение поэтому и приурочил посмотреть Ростов и Краснодар Станислав Жукелис (кажется, и сейчас на Мариупольском заводе) будучи в Харькове в командировке, зашел ко мне и в разговоре, где можно найти подходящее место по моим средствам, он советовал, что Краснодар, где и дешевый рынок, где можно купить инструмент, делать литье, поковки и пр. Ростов он мне не советовал, потому что там все дорого. Кроме того, по заданию известного Вам учреждения я должен был проехать на Бердянск, Новоспасовку и Гуляй-Поле, чтобы там кое-кого выявить. И больше того, эта поездка интересовала Захарова, особенно Цемника, Рудзинского и Иванова 1-го. Они просили меня поискать и связаться в Ростове, Таганроге, Краснодаре и Новороссийске с анархистами, дать им нашу информацию и получить ихнюю. Но, не имея адресов, связаться невозможно. Эти адреса начали они искать и, к сожалению, за месяц времени ни одного не дали. Единственно, что Захаров мог найти – это эсеровские связи. Он получил один адрес от финансиста Гипроруды. У него в Краснодаре были связи. Директор треста – не помню по названию, находившийся тогда в Харькове в доме проектов был бывший эсер (фамилию его не знаю). В состав этого треста входил Краснодарский завод им. Седина. Директор з-да Седина был тоже эсер (бывший). Начальник планового отдела Седина тоже эсер, значит, можно у них узнать какой-либо адрес анархистов. Мало того, Дмитрий Баженов, работавший тогда секретарем лаборатории Харьковского тракторного завода, сообщил мне фамилию своего друга анархиста из Днепропетровска, который должен был проживать в Краснодаре, и которого можно найти через адресный стол. Этот анархист, по словам Баженова, работал одно время близ Краснодара в одной из с/хоз. артелей, откуда в 1931-32 году были изъяты ОГПУ группы анархистов. Если не ошибаюсь, фамилию он назвал Юрченко. Финансист Гипроруда имел со мной беседу по поводу того, что директор – эсер треста, в состав которого входит краснодарский завод Седина, при моем желании может меня назначить зав. плановым отделом, если я решил переехать в Краснодар на жительство.
В Ростове я не получил ни одного и ни от кого адреса. Но я знал одного молодого парня, беспартийного и нигде не принимавшего участия в политборьбе. Фамилия его Говяз (зовут не помню) – сосед моей матери из с. Новоспасовки. Кроме того, приятельница моей матери (фамилию не помню), когда я был в последний раз (1928-1929 г.) в Новоспасовке, говорила, что едет со своим стариком на жительство в Ростов к сыну, работающему в органах ОГПУ. Незадолго до этого при случайной встрече с бывш. главбухом Правления Югостали, в то время главбухом Харьковского тракторного завода, если не ошибаюсь по фамилии Греченко. Последний советовал ехать на жительство в Ростов. Он из Ростова вернулся в Харьков год тому назад. В Ростове работал главбухом Сельмаша. Сам большевик левого течения и не без сочувствия относящийся к синдикалистам. Обещал устроить меня на Сельмаш. В разговоре об анархистах он сказал, что прожил в Ростове два года и не нашел ни одного. В 1932 году мой зять Григорий Прочко был у меня в Харькове проездом из Москвы в Тихорецкую. Это молодой парень, однажды колебавшийся между большевизмом и анархизмом и в последнее время ставший большевиком, имел назначение Кагановича в Тихорецкую на пост начальника Политотдела 1-го совхоза. Поэтому я хотел его навестить на предмет службы, если она будет подспорьем моим изобретательским планам, (т. е. я имел в виду механическую мастерскую, чтобы не приобретать оборудование). Никакие другие адреса в Тихорецкую я не имел.
Что касается Новороссийска, у меня не было ничего, но я надеялся встретить кого-либо из старых по 1917-18 г. приятелей. В Туапсе мне никто не дал адреса, но я и здесь надеялся встретить кого-либо из старых знакомых. В Мацесте и Сочи у меня никого не было и никто не давал мне адреса – в этих местах я никогда в жизни не бывал, если не считать один пароходный рейс в 1917 г. В Армавире у меня тоже не было никого из знакомых, если не считать бывшего туапсинского городского первого большевистского комиссара (фамилию не помню). О том, что он живет в Армавире и имеет свои автомобиль, занимается извозом, мне говорил в Харькове в 1927 г. Самарский – председатель треста, но там ли он 1933 году, я не знал. В Темрюке, по моим предположениям, должен проживать Морозов (имени не помню) бывший начальник артиллерии Махно, но сбежавший от него в начале 1920 года.
В Ейске у меня были в 1918 году связи с одним анархистом (фамилии не помню) или, если не ошибаюсь, – Михайлов, живший близ центра (улицу и номер, не знаю). Другой анархист-матрос – фамилии не помню – но зовут, кажется, Иваном, жившим тогда в поселке на Косе. Третий анархист кузнец, имевший кузнецу и домик на сенном базаре по направлению Лимана, фамилия, кажется Анохин или Анохнин. Кроме них, у меня из анархистов никого не было. Были знакомые девушки – семья Жукелина, в 1932 году работавшие на Мариупольском заводе, и еще одна семья – фамилии не помню – где я квартировал. Данных по Ейску за 1932-34 год у меня никаких не было. Что касается станиц, как по состоянию 1917-18 г., так и 1932-33 г., у меня никаких данных не было, если не считать Должанскую станицу, где меня арестовали в 1921 году. Тут были знакомые казачки-девушки беспартийные и хозяин, у которого я столовался 1-2 месяца в 1918 г. и который был арестован за меня: судьбу его не знаю и сейчас (фамилию не помню). Кроме того, я знал, что очень много кубанских казаков было у Махно, много было их и ставропольцев у Маслака. И, поскольку эти банды были раздавлены Красной армией, остатки их притаились по станицам Кубани и селам Ставропольщины. Но никого из них я не знаю. По данным 1927-1928 года я знал, что Чернокнижный из Ново-Павловки Гришанского района – вождь эсеров и махновец – проживал не то на Кубани, не то на Дону.
Вот те данные, которые я имел перед отъездом из Харькова. Из них много не возьмешь.
Как я выполнил эту поездку?
В кармане у меня 500-600 рублей денег, когда я выехал из Харькова. Неоформившаяся харьковская федерация не теряла надежды на то, что мне удастся разыскать по дороге в Мацесту анархистов. В один из летних месяцев 6-7 или 8 1933 года я выехал. Остановился в Ростове в гостинице "Дон". Вечером сходил в город, где у совершенно незнакомых гуляющих и рабочих расспрашивал о жизни, квартире. Один служащий, пожилой мужчина, об этом меня информировал более подробно. Я заговорил с ним о прошлом белом Ростове, анархистах, но ни одного анархиста он мне не назвал: "И не слышал за них". Утром следующего дня трамваем проехал на Сельмаш, но на заводе не был, т. к. никого у меня там не было знакомых, а у Греченко я не взял ни одного адреса. Был на базаре. Цены против Харькова были чуть ниже. После этого я поспешил взять билет на 12-часовой поезд и ехать дальше. Никого я там не искал и никого из знакомых анархистов или одностаничников не видел. Между прочим, номера-одиночки не было, и я оставался в общем, где был какой-то армянин-торговец с девушкой. Ростов я покинул в 12 часов дня.
В Тихорецкую я прибыл вечером в момент, когда Краснодарский поезд составлялся. Был дождь. Я решил было пойти к зятю Григорию Прочко – начальнику политотдела 1-го Совхоза. Один возчик из того же совхоза мне сказал, что Прочко выехал 2 дня тому назад в Ростов по делам. Делать мне там было нечего, и я сел в поезд и выехал в Краснодар. В Краснодаре я остановился в гостинице на Пролетарской-Красной, в номере стоял один. Часов в 11 утра я пошел посмотреть город и узнать цены на базаре. Против Харькова цены здесь были на 50% ниже. С сенного базара я отправился в Кожзавод, где говорил с главным инженером (фамилию не знаю) относительно своего предложения по непромокаемости кожи. На обратном пути в гостиницу зашел в адресный стол, чтобы узнать адрес анархиста Юрченко. Но мне дали справку, что такой-то в Краснодаре не проживает. После от Баженова я узнал, что он 2 года тому назад выехал куда-то в центральные губернии ЦЧО и с того момента его действительно в Краснодаре не было. На следующий день я пошел на нефтеперегонный завод по поводу брикетирования нефти. Меня не пропустили, но сказали его квартирный адрес, по которому я имел с ним вечером беседу. Здесь, как и на кожзаводе, мои вещи нельзя было реализовать ввиду отсутствия средств.
В тот же день, возвращаясь с перегонного завода, меня пропустили к директору завода Седина. Я сказал, что приехал из Харькова и что адрес дал мне финансист Гипроруды. Он спросил не привез ли я из треста ему письмо. Я ответил – нет. У него в кабинете было много людей, и он попросил меня, что мне нужно обратиться к Начальнику планового отдела. Я отрекомендовался, что из Харькова и что Краснодар мне нравится, и я думаю переехать сюда на жительство. Работу он обещал дать на заводе по техническому планированию. Обещал даже устроить с квартирой и подъемными. В конце разговора я у него спросил – не знает ли он кого-либо из местных анархистов. Он подумал и ответил – одного знаю. Он указал на квартирного маклера Ленского, которого можно видеть на углу Пролетарской-Красной. Других он не называл. Интересовался Харьковом и говорил, что собирается туда. Он просил меня зайти к нему завтра. Фамилию директора и Нач. планового отдела (бывших эсеров) не помню. Ленского нетрудно было найти, он был пьян на углу Пролетарской-Красной с одним толстым греком. Я его отозвал, сказал, кто к нему послал, и пригласил его в номер. Взял пол-литра и закуски. В беседе с ним я не верил своим глазам, что это может быть анархист – это просто пройдоха, а не анархист. К единому анархическому движению, которое намечалось Харьковцами он смотрел равнодушно и говорил, что он "это дело оставил", что он партизан красный и прочее. Очень ругался, что большевики его обходят, что не дают жить притесняют, – он врал, как я после узнал. Относительно участия краснодарских анархистов в предполагаемом съезде в Харькове он говорил, что ему лично некогда, но что он об этом скажет "ребятам". Он назвал одну фамилию (не помню какую) и сказал, что в Краснодаре никого нет и что налицо только он да "отец". "Отец" – это какой-то старый каторжанин из бывших народников, отсутствовал из Краснодара, и я не мог его видеть. Другого кого нибудь он не показал и не назвал. В Краснодаре мне больше нечего было делать. Мы обменялись мнением, адресами и расстались. На следующее утро я выехал в Новороссийск. В Новороссийске с поезда я поспешил на пароход, который должен был отходить на Туапсе на следующее утро. Времени у меня оставалось достаточно, чтобы пробежать и посмотреть город. Он намного изменился против того, что был. Но как же найти связи? В горсаду я завел разговор с одним сторожем-стариком. Он знает 1917–18 год Новороссийска. Знал многих партизан красных и указал мне на своего сменщика, моих лет, среднего роста, человека на вид моложавого. Разговорились с ним. К нам подсели его знакомые. Очень живо говорили о партизанской борьбе против Деникина, в которой он был первым застрельщиком, а ныне инвалидом. Ругал Соввласть, что она его обходит. Осторожно я вязал с ним разговор относительно местных анархистов. Он заявил, что сейчас в городе нет даже поганого. Раньше было много анархистов матросов, а теперь их нет. "Если бы они были, кто-кто, но я бы знал". Я с ним проваландал до вечера, а потом ушел на пристань. На пристани узнал за Мацесту; что места по 350 рублей, но что их можно получить с большим трудом на месте. Лечение мое приходится остановить. Решил посмотреть Туапсе, куда на закате солнца прибыл. У каждого встречного пожилого мужчины я спрашивал фамилии Стерлянова, Кузнецова, Солдатенко, Самарского, но их никто не знал. Один только сказал, что Кузнецов (анархо-толстовец в 1917–18 г.) работает директором на нефтеперегонном заводе. Было совсем темно. Тогда я нашел гостиницу. Официантка была молодая и ни чего не знала об интересующих меня фамилиях. Утром я решил вернуться в обратный путь на Ялту, Керчь, Бердянск, Харьков встречным пароходом. Рано утром отправился на нефтяной завод, у ворот которого думал встретить кого-либо из старых знакомых рабочих. Кузнецова не было в городе, куда-то уехал в командировку. На обратном пути недалеко от завода встретился со знакомой фигурой. Это был мой бывший милиционер Громов. Он меня узнал. Разговорились. Он партизан-инвалид теперь. Говорил, что Солдатенко и Кузнецов только и остались в городе. Остальных ребят давно здесь никого нет. Анархистов или махновцев и не слышал. Громов где-то сторожевал. Говорить было не о чем. Я поспешил в гостиницу за чемоданом – и на пароход. В 11 часов отправился через Новороссийск на Ялту, сделал пересадку на Керчь и Бердянск. По дороге ни с кем из знакомых не виделся. В и Бердянске встретился с Вуновским (быв. анархистом). Завязал с ним разговор о местных анархах. Он утверждал, что в городе никого нет. Есть бывшие махновцы, но они сложили давно оружие и теперь рыбалят да пьют вино. Руновский Ефим говорил мне, что он омещанился, но что такая масса несправедливости, которая его волнует. Брать на себя какую-нибудь анархическую работу в городе он воздерживался, а потом сказал, что, если нужно, он примет участие в съезде. Был у него на квартире (не помню улицы и номера). Живет ничего, хотя и получает немного, работает на вокзале носильщиком.
В Новороссийске картина была следующая. И не только там, но и везде, где только я бывал в мои рейды в 1927–28 г. Все коммуны были превращены в первые коллективы, а их анархические застрельщики были высланы, пара калек из молодняка уже были перевоспитаны в комсомольцев. Наш анархизм на селе с его коммунами потерпел бесповоротно фиаско окончательно в 1919 году. Павел Гончаренко только пришел из ссылки. Вдовченко и других еще не было. Говорить о какой бы то ни было противосоветской работе было не с кем.
Тоже было и в Гуляй-Поле – коммуны стали колхозами. Анархозастрельщики их изъяты орг. ГПУ еще в 1929 году. Часть была еще в ссылке, а некоторые драпанули в Донбасс. Василий Шаровский – в Белую церковь Киевской губ. Влас Шаровский – Каменское. Чучко еще был в ссылке. Единственно кого встретил – это Максима Подкову, который бежал с этапа и скрывался в Бердянском районе. Да и тот ногами и руками открещивался и не признавался. К тому времени харьковские анархи все еще собирались с духом. Артель почти уже вступила в организованный период. Наездом Харьков посетил Рейдман, приехала из Ташкента Ревека – мой непримиримый враг. Я сделал на квартире у Цемника информацию о своей поездке. Присутствовали Цемник, Захаров, Рудзинский, Иванов 1-й, кажется, Козлов. Все приуныли, когда бы не вышло мыльного пузыря из единого анархизма. Но Захаров стоял на своем: "Если за пределами Украины нет анархистов, то это не значит, что их нет на Украине. Стоит только сагитировать на это Барона, и все будет в порядке. Синдикалисты нас "дополнят", – говорил он. С ним были все согласны.
Смотря на всю эту галиматью, я не мог дальше оставаться в Харькове среди этих людей, меня тянуло к творческой технической и литературной деятельности, которую я наметил себе на ближайшие три года. Кроме того, я устал и нуждался в отдыхе. Я решил оставить Харьков и переехать в Краснодар. Этот вопрос был согласован с Козельским, и, получив разрешение, я выехал.
На следующий день моего отъезда, 1/II-34 г., славное ГПУ прекратило существование "Набата". Две коммуны были ликвидированы, а Цемник, Захаров и Иванов 1-й, Козлов и другие (8 чел.) были арестованы. Анархизм разбился. Цемник выслан был в Новосибирск, Захаров – в Архангельск, Иванов – в Ташкент, а Корун (из Москвы) – в Нарымский Край. Остальные были освобождены.
Гипроруде я продал собственную пиш. машинку за 13.000 руб. Это были мои средства, на которые я должен был жить и работать свои технические вещи. В течение трех лет. Я это и делал, не принимая никакого участия в пресловутом анархизме, который давным-давно перестал меня занимать. Но я лично много наделал себе бед. Я оторвался от анархической среды и стал совершенно бесполезным гражданином.
По приезде в Краснодар я нашел Ленского, с которым искал целых две недели купить домик, только теперь я к нему присмотрелся, что это за анархист. Ничего в нем нет анархического, если не считать, по его словам, прошлого, он водил меня за нос и не мог познакомить меня с анархистом-каторжанином, пока я с ним окончательно не рассорился. Он меня обставил на комиссионных за дом на 700 руб. В начале ежедневные встречи с ним приводили к разговорам о том чтобы поставить в Краснодаре на анархическую работу, найти и привлечь к тому людей. Но он отмахивался и говорил что это сказка и что нет в Краснодаре людей на это самоотверженных, нет анархистов. Я его убеждал, что найти их надо, а если нет, надо воспитать. Я видел, что он увлекается мещанством и после ссоры перестал с ним здороваться.
Дом был куплен у помещика Тихоненко по Ново-Мартинской, 7, задаток уплачен, но ввиду того, что из Гипроруда не выслала мне своего за машинку долга, подписание договора затянулось до 15/V-34 г. В апреле пришлось выехать по этому вопросу в Кривой Рог и Харьков. Купила машинку Криворожская Гипроруда, которая была подчинена Харьковской. Последняя тянула утверждение финплана. В Харькове виделся с Рудзинским, женой Цемника, Чубенком Алексеем и другими. Все говорили о помощи ссыльным. "Летопись революции" мне была должна. Я дал доверенность жене Цемника чтобы она получила 150 руб. и разделила их между идущими в ссылку.
По возвращении моем в Краснодар в конце апреля (если не ошибаюсь) на базаре я случайно встретил Ивана Лепетченко. По его словам, приехавшего сюда за кизилевыми ручками для завода Ильича. Он остановился в доме приезжих. У меня был один вечер, через день уехал в Абинскую отгружать эти ручки. Помню, в общих чертах наш разговор. Он очень жалел, что приехал в Россию из Польши. Кроме того, он был доволен своим положением. Единственно, что его беспокоило – это ГПУ. Он очень ограниченный махновец-рубака, и только, но теперь он заговорил следующее: что черкесы – народ свободолюбивый, и, если бы тогда Махно появился здесь, он нашел бы успех. Жаловался, что ГПУ притесняет сложивших оружие махновцев, как-то: арестовывает и ссылает их незаслуженно. Он говорил мне, что если кто-нибудь будет скрываться, то будет посылать его на Кавказ, где, видно, можно еще пожить. Ругал махновщину, что из-за нее приходится страдать, но тут же выражал недовольство на ГПУ, которое, по его словам, не дает ему жить. Я ему говорил, что скрывающиеся от преследования махновцы могут сюда не приезжать, а лучше устраиваться в Донбассе на заводах, рудниках. Кроме того, здесь им нечего делать, а там они могут быть более полезными по сколачиванию анархических групп. После этого он согласился. Больше того, он имел охоту и сам переехать сюда, если бы можно было найти здесь для него работу и "улизнуть" от ГПУ. Он говорил мне, что старший его брат Саша Лепетченко недавно из Гуляй-Поля переехал не то в Царицын, не то в другое место – на Дону, – точно не помню.
Лепетченко я не мог понять – с одной стороны, он был лояльным к Соввласти, с другой, настроен против ГПУ. Кроме того, он говорил о перекочевывании сюда махновцев, о черкесах, ли не о восстании. Я его осаживал, говорил, что всякое активное выступление кучки людей без поддержки народа есть просто политическая афера. После этого он больше не заикался.
Месяц или полтора спустя, в конце мая 1934 года, он снова приехал под предлогом за теми же ручками, остановился у меня, а утром сказал, что едет в Абинскую. Теперь он менее был приподнят против ГПУ, черкесах, перекочевывании махновцев на Кубань и прочей галиматьи, а больше говорил о своем заводе, о семье, о Левке Задове и Даньке. Он мне сказал, что в Одесском ГПУ с Левкой работает Каретников Пантелей, и что они приглашают и его туда. На политические темы, насколько помню, я не говорил. Я просил его поговорить с Трубачем – зам. директора по снабжению завода "Ильича" который меня знает по работе в Югостали и Стали, что, если заводу нужно, я могу принять на себя службу представителя завода по снабжению и отгрузкам кизилевых ручек. Он обещал, но ничего не сделал. За все время пребывания моего в Краснодаре ко мне, кроме Лепетченко, в том же 1934 году приехала семья жены – мать, ее сестра и брат. В декабре приехали, а в феврале уехали. Из Кореновки приезжал Орлов (имя не помню), с которым я был на заводе Седина у главинжа. Орлов хотел перейти и перешел туда на работу плановиком. Директора и зав. планового отдела (быв. эсеров) тогда на заводе не было. Были другие лица. Орлова в то время исключили из партии, и он писал у меня на пишущей машинке заявление райпарткому. Был ругливый на тех, кто неправильно его исключил из партии. Теперь он работает пом. прокурора г. Краснодара и очень доволен этой работой. Он меня знает как бывшего анархиста, ныне беспартийного. Я с ним очень редко встречался, а еще реже говорил на политические темы.
Случайно встретил полтора года тому назад своего сталинского сослуживца Шляпникова, вернувшегося из ссылки. В свое время он был представителем ЧЕКА г. Николаева. Сам был больше синдикалист, чем коммунист. Один раз он ко мне зашел на квартиру и мы с ним пошли к квартирному маклеру – он искал квартиру. Он был очень недоволен Компартией и Соввластью. Он открыто говорил, что в "России полный фашизм" и что он никогда больше не поступит в партию, а лучше будет доживать свои годы мещанином. Говорил, что если бы во главе был Троцкий – этого не было бы. Связан ли он с кем-либо или нет – неизвестно. К анархистам Шляпников относится очень положительно жалеет, что нет влиятельной группы. Со своей стороны я ему поддакивал и симпатизировал. Живет Шляпников, не знаю где в городе. Занимается обойной работой. Встречался с ним не более 5 раз за все время.
Если не ошибаюсь, в 1936 году ко мне впервые пришел солидный довольно интеллигентный мужчина. Вызвал двор и отрекомендовался (не помню фамилию). Он переспросил сил мою фамилию и в руках, кроме портфеля, держал справку адресного стола. Он сказал мне, что имеет из Новороссийска от своего хорошего друга, по фамилии не то Науменко, не то Сидоренко просьбу разыскать Виктора Белаша. Дальше он заявил, что бывший народник-каторжанин и что в настоящее время работает в качестве коменданта общежития студентов коминститута. "Работа не нравится, но негде деться". Я ему сказал, что такую фамилию не помню. Он дал пояснение, что новороссиец вместе со мною сражался в 1920 году против Врангелевского десанта. Но я в то время был на Украине. Старику было неловко, но он поправил себя: "Значит, вы одноименец и однофамилец". Он говорил мне, что тот работает где-то в Новороссийске плотником и что он собирается ехать в Геленджик на курорт и сумеет к нему зайти. Он приглашал меня к себе в общежитие на плотничьи работы. Но я ведь не плотник. Когда он ушел, я догадался – не "отец" ли анархиста Ленского, о котором он мне говорил.
Через полгода он снова зашел ко мне с просьбой продать ему, если у меня есть, водомерные стекла к котлам парового отопления. Я сказал, что нет и спешил что-то делать. Он с тем и ушел. Я не посмел его остановить, потому что не хотел связываться с ним и нарушать мещанское благополучие. Это мое преступление.
Из числа политических людей, какие со мной встречались, принадлежат и Казинцев (не знаю имени). Живет на Базарной улице, ворота рядом с Госбанком к Красной. Занимается швейными машинами. Сам из Луганска, бывший член партии и комиссар красной дивизии. Большой забулдыга, но политически грамотный. Очень ругливый, очень непримиримый к сталинскому руководству. В момент, когда были расстреляны Тухачевский с группой, он громко возмущался на базаре и говорил, что "рано или поздно, но Сталина снимут пулей, нетерпимо стало жить". Я его одернул, но он обругался по матери и сказал – "мне уж все равно погибать, а я говорю то, что на сердце". Он был трезвым. Я с ним не особенно в близких отношениях. Год тому назад я продавал токарный станок, он обещал найти покупателя и пришел посмотреть его. Он всегда с критикой и руганью на Соввласть. Однажды я был у него на квартире и купил за 400 руб. разбитую пишущую машинку "Иост". Он всегда и при встрече любит говорить на политические темы. Я не говорил ему, кто я в прошлом и настоящем. Не особенно ему поддакивал, но скорее удерживал его. Замечал его знакомых, они тоже похожи на него, ругливые и критикующие Соввласть, да еще где, на базаре. Другое дело исключенный из партии и уволенный из системы Заготзерно, как вредитель, Титов (имени не знаю). Живет против конторы порта. Он электрик, и на этой почве я с ним познакомился 1-2 года тому назад. Он не ругливый вообще, но ругается на свою партячейку, которая его исключила, и на краевого директора, по его – вредителя, Авсеньтьева надеется восстановиться в партии.
Особо от этих людей стоит Василий Баранов, с которым я познакомился, кажется, в апреле или мае 1937 года. Это анархосиндикалист из Ростова. Отбывал одну ссылку в Сталинграде, другую в Нарымском крае, вместе с Долинским, Немерицким, Рейдманом и Володарским. Знакомство мое с ним произошло на чисто технической подкладке, живет он через улицу от меня (через 6 домов). Я просил у него достать бензина на мотоцикл, отчего позвал его к себе на квартиру, где познакомились и нашли общих знакомых анархистов: Долинского, Немерицкого, Рейдмана, Володарского и Школьникова. Он очень осторожный, идейный, вполне политически подкованный человек. Просил его заходить ко мне, он обещал, но не заходил. Суммирую общий разговор с ним. Он очень интересуется событиями в Испании – кто кого повалит, республика или фашизм, – большевизм или синдикализм. Очень жалеет, что в России нет условий для синдикалистского развития, отсутствуют организационные формы, нет единства действий. Очень жалеет, чтобы синдикализм взял верх над большевизмом, если победит Республика. Русский большевизм и Сталинское руководство ставит наравне с положением в Германии – "рабочие закабалены государством", – говорит он. Но его мнению нужны анархо-революционные силы, дух протеста; чтобы влить в массу веру в забастовки и организацию антигосударственных профсоюзов, – заявляет он. Но, когда я начинал говорить относительно того, что рано нам идти к забастовкам, что надо сперва иметь с чем идти, т. е. надо иметь анархистов, – он тут начинает говорить о трудностях пропаганды. Я его склонял на путь воспитания и вербовки молодняка, а он мне торочит о забастовках. По его словам, здесь нет людей, которые бы тебя понимали. Молодежь фашистская, или пустая: "хи-хи-ха" и больше ничего не знает. Зато, с его слов, рабочая среда в Сталинграде была очень податливая, особенно на химическом комбинате, где он работал. Группа анархо-ссыльных в блоке с троцкистской ссыльной молодежью устраивали рабочие забастовки, организовывали срыв против займа 1-й пятилетки, против увеличения норм и пр.
Баранов заявляет, что он там играл первую роль. Не помню, где, в Сталинграде или Астрахани, вместе с ним был Изя Школьников, работая техником при Коммунхозе. Он тоже принимал участие в их подрывной работе. Очень скучает по Сталинграду, Самаре и Саратову, где есть и рабочие – пролетарии, и есть единомышленники, по его утверждению, в Краснодаре и вообще на Кубани "не светит" анархистам. Ибо крестьяне более зажиточны, а рабочие не совсем опролетаризированы. Ему ничего не надо – маленький оклад жалованья, хатенку, коровенку и свинушки. К анархизму, забастовочной борьбе его не склонишь. Еще лучше в концлагерях – там народ набрасывается на нашу идею и становится анархистом, а в худшем случае – попутчиком.
Мне очень хотелось контактировать с ним свою работу. Я говорил ему, что надо работать, что у меня ведется тоже работа, особенно по станицам, указывая метод работы – одиночного воспитания, но своих кадров я никогда не думал ему показать. Он же говорил, что ему не удается и что есть в городе, – это его единомышленники, с которыми он сюда приехал, бухгалтер какого-то учреждения и его жена. Он говорил, что за ним следят, проверяют, но я подозреваю, что он просто преувеличивает, а может быть, и врет, когда говорит, что у него нет кадров. Он пробовал устраивать (по его словам) забастовку хлорировщиков, которые по городу обеззараживают клозеты. Говорит – удачно прошло, жалованье увеличили. Пытался то же сделать с шоферами, но тут не была выдержана до конца конспирация. Затем он был оттуда выгнан. Не буду утверждать, есть или нет у него свои кадры (синдикалисты), но можно прямо сказать, что попутчики, сочувствующие были, хотя бы те, которые выиграли забастовку. Я бывал у него один раз на квартире. Один раз и он у меня был. Больше не удалось его затащить к себе. Чаще встречались на улице при встрече и на почте. Он получал свои письма до восстребования, и я тоже, там мы случайно иногда встречались. С его слов знаю, что когда он был в Нарымской ссылке, в момент, когда отъезжали Немерицкий с женой, Рейдман с женой и Володарский, то у них было предварительное совещание – кто куда едет и зачем. Они условились не прекращать борьбы против Соввласти. Немерицкий уехал в Симферополь, Рейдман в Баку, Володарский в Харьков. Все они поддерживали связи с Долинским и Барановым, получали денежную помощь. Но не только от них получали, им посылали и из Парижа. Вела с ними переписку, если не ошибаюсь, синдикалистка Фаня. Баранов имел с ней переписку и в Краснодаре. У Баранова, по его словам, есть в Астрахани, Ростове, Сталинграде, Самаре, Саратове, Москве и Ленинграде.
Вслед за Барановым идет бывший левый эсер Максим Терентьевич Колесников, купивший у Кафеджана дом по Ново-Марьинской, 7, за 10.000 руб., вместе с Макаровой. Настроен явно против Соввласти. По его словам, он стоял у красных под дулом и "глазом не моргнул". Его совладелка говорит, что он ограбил в Новосибирске сберкассу и удрал Краснодар. Работает на мельнице по Новой улице (если ошибаюсь) и систематически носит оттуда муку. С его с его слов можно заключить, что он и его земляк на пару занимаю вредительством путем систематической недовыработки нормы, закрытием и поломкой мучных проходов. Эти вещи они болтали при мне. Фамилия его земляка Мамонтов (где живет в собственном доме – не знаю). Кроме того, Колесников очень ругает Соввласть за налоги, смеется с выборов и конституции, очень ругает НКВД за арест ихнего крупчатника, который принял его на работу и который никогда не мог вредить. Как-то он собрался ехать в Ново-Сибирск. Я у него спросил, есть ли там анархисты. Он ответил есть. Я просил его взять мое письмо для них. Он согласился, но ввиду того, что поездка не состоялась – последнее осталось разговорами. Это тип, который в любое время может поддержать антисоветское выступление.
Бывший плантатор табака Саркис Кафеджан (уехал на время в Тифлис), а с ним и колхозники – братья Мурадьян Сергей и Манук настроены против Советской власти. Они очень ее ругают, ругают особенно НКВД за то, что забрали у Кафеджана в 1930 году золото, много табака, а Манука выслали. Манук вернулся из ссылки в 1934 году и работает в колхозе имени Баракая, Псекпского района конюхом. Очень недовольны колхозы и ведут разлагательную склочную работу. Вообще этот колхоз состоит из бывших богатеев-плантаторов, имевших наемные рабочие руки.
Когда был здесь Кафеджан – хозяин дома по Н-Марьинской, 7, то всегда он агитировал своих армян против колхозной жизни. Дом у него был на пару с Мурадьяном Сергеем, его купили в 1935 г. за 6.500 руб., а в 1937 году продали 16.000 руб. Председатель колхоза тоже "парень свои", они расхищают и дают государству не то, что надо, а меньше.
Менее публика из серии моих знакомых краснодарцев части ругани и недовольства Соввластью состоит из следующих лиц: помещик Тихоненко Петр Порфирович (Ново-Марьинская, № 8), Беляк, Курочка, Федорченко или Федоренко Андрей, часовой мастер при комиссионном магазине (не знаю как фамилия) Белодед, Шулев, несколько фамилии не помню электриков.
Вся эта компания недовольна и втихомолку ругливая. Она тоже при достаточном освещении ее взглядов и действий – требует переработки и перекалки. Я имел с ними мещанские связи и иногда только поддакивал их возмущениям. В этом я глубоко виноват. Виноват и в том, что все эти знакомые более или менее контрреволюционно настроенные, их слова и возмущения оставались у меня под спудом. Я не передавал их куда следует и способствовал их развитию, проще – я смотрел на эти явления как на болезнь и не придавал им никакого значения – поэтому я не советский гражданин, я делал злоупотребления.
За это время я сам слишком омещанился, слишком увлекся в сторону от революционной борьбы. Прожил три года и ничего не сделал хорошего на пользу государства. И что было бы, если бы эти три года я был там, где есть контрреволюционно-анархическая среда, т. е. на Украине? Я бы сделал очень много полезного. Здесь же, ввиду отсутствия среды, я ленился и подло оторвался от революции. В этом моя непростительная вина. Борьба шла, она идет и сейчас, а я из-за технических увлечений стоял в стороне и только наблюдал, даже больше – скрывал возмущавшихся от наказания.
Но я достаточно наказан уже. Мне хочется искупить свою вину перед Советской властью, о чем прошу Вас предоставить эту возможность с пользой здесь или на Украине.
26/XII-37 г. БЕЛАШ.
К машинописному тексту следует приписка от руки: "Собственноручное показание мною прочитано, в чем и подписуюсь".
В. Белаш.
Допросил Вр. Нач. 3 отделения 4-Отд. УНКВД КК Лейтенант Госбезопасности (Исаков).
Публикация материалов из архива КГБ Л.Д. Яруцкого.
Опубликовано в книге: Лев Яруцкий "Махно и Махновцы". Мариуполь 1995.
|