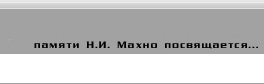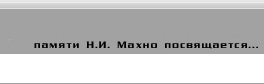О социальной революции (3)
Немецкому философу Вальтеру Беньямину принадлежит блестящая аналогия, которая помогает понять, что же такое социальная революция для анархиста. Он сравнил ее осуществление с описанием прихода Мессии, со спасением и освобождением мира в иудейской лурианской мифологии.
Согласно старым иудейским мыслителям, изначальное содержание, существо, «свет» мира («шхина») раскололся на мельчайшие осколки, разлетевшиеся по всему пространству. Спасение мира связано с собиранием этих осколков – «тиккуном». Их собирают сами люди, постепенно восстанавливая единство мира и смысл мироздания. Когда они его соберут – придет Мессия-избавитель, и мир будет спасен. Чем быстрее будет идти «тиккун», тем скорее явится спаситель.
Так же обстоит дело и с социальной революцией. Чем более активно и сознательно люди будут бороться за нее, тем скорее она настанет. Потому что она – не политический переворот, не акт взятия власти. Она не сводится и к акту ее упразднения. Социальная революция – это кульминация социально-революционного процесса воссоздания общества снизу и торжества новых отношений между людьми. Процесса, который открывается с массового социального подъема, возникновения массовой революционной рабочей организации, сопровождается распространением революционного сознания и революционной культуры, все более углубляющимся по мере новых кризисов и выступлений, чтобы, наконец, затем вылиться в решительный и последний штурм старого мира.
Мы можем определить «на ощупь», стало ли данное движение началом революционного штурма, упраздняющего власть и капитал, ощутив, насколько уже сильны в обществе нормы, ценности, идеи и принципы вольного коммунизма. Если всего этого еще нет, а революционеры – по-прежнему маленькое меньшинство, то значит, такой момент пока не настал. Но не есть ли это уже отправная точка для социально-революционного процесса в целом – вот этого мы знать заранее не можем. Эта точка в истории не предопределена. А потому мы должны действовать так, как будто цикл великих потрясений начался. Ибо дорогу осилит идущий, а победа приходит в борьбе.
* * *
Пришло время сказать еще об одном заблуждении, которое распространено, на сей раз, среди разного рода приверженцев «конструктивного социализма» – сторонников создания нового общества в рамках старого. Они верят в то, что социальная революция и вольный коммунизм вырастут непосредственно из существующих сегодня социальных движений – общественных самоуправляющихся инициатив, рабочих союзов, ассоциаций жителей, общих собраний и Советов, путем их простого превращения в нечто «всеобщее», охватывающее общество в целом. Так сказать, методом количественного умножения с последующим гегельянским «переходом количества в качестве». В некоей точке эта идея пересекается и с представлением об «инициативном меньшинстве» (как сознательном авангарде внутри всех этих инициатив), и с теорией «стихийной революции» (в которую якобы всегда могут превратиться нынешние движения).
Увы! Старик Гегель, считавший все действительное разумным, в очередной раз оказался неправ. Существующие организации протеста могут плодиться и размножаться до бесконечности, не меняя своего нереволюционного качества. Ведь большинство из них порождены проблемами существующего индустриально-капиталистического общества и строятся таким образом, чтобы защищать интересы людей в его рамках. Они не выходят и не выводят сами по себе за пределы старого мира, да и не ставят перед собой такой задачи. В социально-революционном отношении они столь же бессильны, как косная материя без животворного духа у гностиков. Таким животворным началом может служить только анархо-коммунистическая идея-сила.
Социальную революцию невозможно «подготовить», создавая и расширяя сеть идейно-нейтральных самоуправляющихся общих собраний, инициатив и движений, которым, якобы, достаточно всего-навсего стать всеобщими. Они в лучшем случае могут послужить отправной точкой для революционной гимнастики – гимнастики, обучающей мыслить и действовать.
В процессе борьбы за улучшение положения людей труда те смогут вновь обрести забытую или задавленную капитализмом социальность, навыки солидарности и взаимопомощи. Эти навыки могут, наряду с идейной и культурной работой, помочь трудящимся преодолеть горизонты существующего общества и развить понимание «идеи-силы» социальной революции и анархистского коммунизма. Важно лишь, чтобы эта борьба велась на основе самоорганизации, прямого действия и самоуправления, без политических партий и бюрократов.
Действительная подготовка социальной революции состоит в распространении навыков и идей солидарности и свободы – основных принципов, на которых сможет базироваться общество вольного коммунизма. Разделяя их, с революционной организацией или без нее трудящиеся смогут сами приступить к созданию нового мира в ходе свержения старой Системы, не дожидаясь ничьих планов, указаний и инструкций, не нуждаясь ни в каком особом «инициативном меньшинстве». «Только так, создавая этические ценности, способные развить в пролетариате понимание социальных проблем независимо от буржуазной цивилизации, можно придти к созданию неразрушимых основ антикапиталистической и антимарксистской революции – революции, которая разрушит режим крупной индустрии и финансовых, промышленных и торговых трестов», – подчеркивал ведущий теоретик аргентинской ФОРА Эмилио Лопес Аранго.
В ходе Испанской революции 1936–1937 гг. жители сел и городов начали, на первый взгляд, стихийно строить новое, свободное общество, без всяких рекомендаций или решений центральных органов рабочих организаций, в том числе и анархо-синдикалистской НКТ. Эта революция оказалась самой глубокой и масштабной из всех, имевшихся до сих пор в истории: целый регион страны (Арагон) с сотнями тысяч жителей, образовавших вольные коммуны, жил в условиях вольного коммунизма, пока движение не пало под ударами превосходящих сил государственников. А продвинуться так далеко вперед удалось именно потому, что трудящиеся массы (в том числе, благодаря многим десятилетиям работы анархистов) настолько пропитались либертарно-коммунистическими ценностями, что при первой возможности стали осуществлять их, несмотря на все предостережения «авангарда» из комитетов их собственной организации!
Но становление новых ценностей и утверждение новой идеи-силы – процесс не линейный, не одномоментный и не статичный. Он требует выдержки и долгого дыхания. К моменту самой революции – свержения власти и капитала и оформления вольных коммун – он должен уже охватить большинство трудящихся, совершающих эти действия Но формирование и постепенное распространение нового сознания начинается еще задолго до перовых революционных бунтов, в ходе повседневной борьбы людей за свои права и интересы, при помощи и содействии социально-революционной рабочей организации.
Все может начинаться с малого. Все большее число людей станет испытывать не просто недовольство существующим порядком вещей, но и желание оказывать сопротивление против постоянного наступления капитала и государства на их жизненные интересы. Возможно и даже вполне вероятно, что вначале трудящиеся – в который уже раз – попробуют прибегнуть к помощи традиционных методов непрямого действия (обращения к властям, политикам, партиям, депутатам, судам и т.д.) и привычных бюрократических структур (бюрократических профсоюзов, неправительственных организаций и др.). Вот только опыт быстро убедит их в том, что эти способы и пути уже бесполезны. Провалы и поражения побудят людей к независимым действиям. Положение начнет то тут, то там выходить из-под контроля партий и бюрократов, а ход борьбы продемонстрирует, что только там и тогда, где и когда трудящиеся действуют на основе суверенных общих собраний и прибегают к методам прямого действия, удается достичь успеха. Так в процессе борьбы появятся структуры самоорганизации – общие собрания и ответственные перед ними делегаты.
Конечно, конкретные улучшения условий жизни и труда работников, удовлетворение экологических требований, нужд квартиросъемщиков и жильцов сами по себе не решают проблемы эксплуатации и господства, не приносят нам освобождения. Капитал и государство всегда могут их отнять и вскоре неминуемо попытаются это сделать. Тем не менее, они важны, особенно если достигнуты путем самоорганизованного прямого действия. И «не только потому, что они улучшают материальное положение трудящихся, – объясняла недавно газета ФОРА «Органисасьон обрера», – но также и в первую очередь вследствие моральных результатов, которые имеет каждое завоевание такого рода. Применение практики прямого действия в рабочих организациях для осуществления прав трудящихся, таких как свобода собраний, агитации, повышение зарплаты, сокращение рабочего времени и т.д., ведет к пробуждению понимания причин, вызывающих существующую несправедливость, и к становлению в наших умах сознания нашей способности отстоять свои права и добиться освобождения».
Самоорганизация людей первоначально вряд ли будет длительной. Слишком разрушены общественные связи государством и капиталом, слишком сильны инерция, конформистские привычки и надежда на «нормальное» представительство интересов. Опыт социальных движений показывает, что обычно люди воспринимают отказ со стороны властей считаться с интересами и нуждами «рядовых граждан» как простой, разовый сбой в привычном ходе вещей и событий и считают нужным «напомнить» тем, «наверху», что «не народ существует для правительства, а правительства для народа». Даже если стойкое игнорирование их обращений и требований побуждает трудящихся и жителей действовать самостоятельно, они, через какой-то срок добившись своего или, наоборот, потерпев неудачу, возвращаются по домам, жить прежней жизнью. Спустя какое-то время какая-либо новая проблема, порожденная существующим строем, может вызвать новые протесты, даже носящие массовый и широкий характер. Но такие выступления, как демонстрирует пример Франции на протяжении последних 10–15 лет, начинаются как бы «с нуля» – и движение опять сталкивается с теми же самыми или почти теми же трудностями, включая неустойчивость самоорганизации и по-прежнему ощутимое влияние партийных, профсоюзных или «гражданских» бюрократов и политиканов, которым, в конечном счете, удается удержать большинство протестующих в рамках норм и границ Системы.
Существует единственная (хотя и не гарантированная) возможность того, что этот порочный круг будет разорван. Рано или поздно люди могут убедиться в том, что необходима более устойчивая и независимая самоорганизация – самоорганизация, приобретающая более систематический и длительный характер. Скажем, общие собрания рабочих предприятия или жителей микрорайона не прекратят собираться после разрешения или снижения остроты того или иного конкретного конфликта, но продолжат свои встречи (например, чтобы самостоятельно контролировать дальнейшее развитие ситуации, не передоверяя этой задачи политическим «представителям»). Важную роль в распространении таких позиций и инициатив могут и должны внести активисты анархистской рабочей организации, ведущие постоянную агитацию в пользу самоуправления в борьбе и разоблачающие бессилие и лживость системы представительства интересов, на которых основана вся существующая власть. Лишь только тогда, когда люди смогут поставить свою самоорганизацию, периодически проявляющуюся в ходе борьбы, на все более стабильную основу, можно будет всерьез полагать, что начался процесс действительного восстановления, регенерации общества и – вместе с этим – становления и распространения анархо-коммунистической идеи-силы.
Не следует ожидать, что этот процесс будет идти линейно, без взлетов и падений, приливов и отливов, наступления и отступлений. Никто не может сказать заранее, сколько времени и энергии может потребоваться на его развитие, и даже произойдет ли оно вообще. Но другого пути возрождения общественных связей, Форума, Агоры просто не существует.
Если новые общественные кризисы и потрясения будут способствовать оформлению и распространению начал длительной самоорганизации, то есть структур самоуправления, задача рабочих анархистов могла бы состоять в том, чтобы с самого начала поставить их на анархо-коммунистическую основу, на фундамент новой, освободительной идеи-силы. Им следует не просто поддерживать в людях священный огонь ненависти к существующим структурам власти и капитала, но и настаивать на том, что только постоянная самоорганизованная активность, только ликвидация государства, власти и собственности в состоянии разрешить насущные проблемы человечества, раз и навсегда искоренив причины и предпосылки для переживаемых сегодня мук, страданий, кризисов, войн и катастроф. Иными словами, самоорганизованным структурам предстоит договориться не только о «негативе», но и о «конструктиве», не только о том, что надо разрушить, но и о том, что и как необходимо создать, построить. Цель состоит не столько в том, чтобы непосредственно и формально объединить большинство трудящихся в рядах анархистской рабочей организации, сколько в том, чтобы даже те люди труда, которые не имеют к ней никакого организационного отношения, чувствовали и действовали как анархо-коммунисты, даже, быть может, не зная, что это называется именно так.
Только когда анархо-коммунистические начала самоорганизации и самоуправления распространятся в достаточной степени, сможет возникнуть ситуация, при которой будет происходить постоянное накопление опыта, почти каждая стачка, каждый протест будут проявлять все более явную тенденцию выйти за рамки и пределы существующей системы, революционные выступления и общие собрания станут более регулярными, систематическими. Тогда революционные силы окажутся в состоянии бросить действительный вызов всему нынешнему строю.
Общество будет воссоздано. Настанет время освободить его от государства.
Социальные процессы – это не закон всемирного тяготения. В них ничего не предопределено заранее. Вот почему бессмысленно сегодня пытаться предсказывать заранее, где и как анархо-коммунистическая идея-сила сможет овладеть помыслами и поступками большинства людей труда. Произойдет ли это вначале в масштабах нескольких предприятий, населенного пункта, региона, страны? Как бы то ни было, никаких изначально установленных границ и критериев здесь быть не может.
Марксисты и ленинисты всех мастей долго спорили и продолжают спорить о том, в каких территориальных пределах может совершиться революция. Одни из них допускают первоначальное утверждение социализма в одной стране, другие настаивают на непосредственно мировой революции, а некоторые предлагают даже отказаться от всяких социалистических преобразований в экономике, пока революция не победит во всем мире или, по крайней мере, в большинстве развитых стран. Революционный анархизм вообще не рассуждает в упомянутой системе координат. Для рабочих анархистов вопрос с самого начала стоит совершенно иначе.
С одной стороны, анархисты не признают национальные, государственные и страновые границы. Им совершенно все равно, удастся ли революции свергнуть власть государства и капитала в масштабах страны, ее части или отдельных частей нескольких стран. Мы, как говорил Бакунин, упраздняем единство нации. С другой стороны, рабочие анархисты прекрасно принимают, что революция носит всемирный характер и, где бы она ни началась, призвана распространяться дальше – иначе она погибнет.
Из истории и опыта известны отдельные, изолированные коммуны, включающие одно поселение или даже предприятие. Такие объединения людей обычно удерживаются недолго, утонув в окружающем море государств и всемогущего рынка.
Из этих обстоятельств исходит и анархо-коммунистическое представление о решающем штурме социальной революции. Сама эта революции (всеобщая захватная стачка) начинается на той территории (как бы велика она ни была), где большинство трудящихся окажется проникнуто анархистской идеей-силой. В отдельном населенном пункте, группе городов и сел, регионе, группе регионов ряда стран и т.д., где люди смогут свергнуть и экспроприировать власть и собственность, могут быть объявлены вольные коммуны. Отдельные коммуны объединятся в федерации. Внутри коммун и их федераций с самого начала установятся отношения анархистского (вольного) коммунизма: все основные вопросы будут решаться общими собраниями членов коммун или (на уровне федераций) – их делегатами с императивным мандатом (обязательным, четким поручением), право собственности и деньги будут отменены и заменены правом равного доступа к материальным и духовным благам и равной возможностью пользоваться ими. Где утвердятся коммуны, а где нет – зависит от соотношения сил, различной скорости и интенсивности предшествующего распространения анархистской идеи-силы, предшествующего восстановления общества. Но не подлежит ни малейшему сомнению одно. Чем на большей территории в первые моменты утвердятся коммуны – тем легче им будет удерживаться в ожидании дальнейшей поступи революции, тем большим объемом энергии и ресурсов они будут обладать.
Вокруг коммун и их федераций первоначально сохранятся территории, на которых удержится власть государства и капитала, а также своего рода социальные «серые зоны». Политика коммун по отношению к этим образованиям ни в коем случае не должна зависеть от государственной или национальной принадлежности: независимо от нее, все не вошедшие в федерацию коммун структуры следует рассматривать как политическую и социальную «заграницу», и относиться к ним соответственно.
Действительно, невозможно быть по-настоящему свободным среди рабов. Выживание коммун напрямую зависит от скорейшего распространения революции на другие регионы и весь мир. Чем на большие районы ей удастся расшириться, тем больше времени и большие возможности будут иметь возникшие коммуны.
Территории, где сохранится государственная власть, а наемные трудящиеся вначале не пожелают или не смогут экспроприировать собственность предпринимателей, должны восприниматься коммунами как зона классовой войны. Следует направить все усилия на то, чтобы разжигать революционные настроения, всеми силами поддерживать анархистские рабочие организации и революционные выступления в «некоммунизированном» мире. Его необходимо как можно скорее разорвать на лоскуты, отрывая от него зону за зону, территорию за территорию, регион за регионом по мере того, как большинство живущих там трудящихся воспримет анархо-коммунистическую идею-силу и окажется в состоянии поднять восстание против государства и капитала. Освобожденные районы смогут присоединиться к федерации коммун.
Иная тактика требуется по отношению к «серым зонам». Речь идет об индивидуальных производителях (индивидуальных крестьянах, ремесленниках и торговцах и т.д.) или целых населенных пунктах (например, деревнях и селах), в которых они преобладают. Разумеется, не войдя в коммуны, такие территории также попадают в категорию своеобразной «заграницы», а их обитатели или проживающие на землях коммун «индивидуалы», не эксплуатирующие наемный труд и ведущие хозяйство исключительно собственными силами, превращаются в «иностранцев». Но они, в отличие от предпринимателей-капиталистов, не подлежат принудительной экспроприации. Их желательно интегрировать в коммуны с помощью морального воздействия и различного рода договорных отношений (например, поощрения их кооперирования, заключения соглашений об обмене продукции их ассоциаций на право пользоваться транспортными путями и природными ресурсами коммун) и т.д.
Не станем и в этом случае изображать пророков и гадать, сколько времени может потребоваться для распространения революции на регионы, континенты и весь мир. Не гарантировано даже то, что такое развитие удастся. Не исключено и обратное: старый мир сможет загасить уже вспыхнувшее пламя свободы, уничтожить уже возникшие коммуны и на долгие столетия снова погрузить мир во тьму, неодолимо подгоняя человеческие стада леммингов к последнему обрыву над последним морем. Экологическая угроза как дамоклов меч нависла над всем миром. Важно понять одно: перед людьми как никогда остро стоит выбор: или найти в себе силу и волю вновь обрести начала утрачиваемой социальности и встать на путь самоосвобождения – или погибнуть…
В.Граевский
http://community.livejournal.com/ana...ru/383406.html