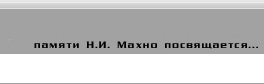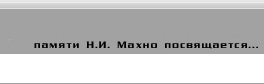Весьма поучительное и занятное чтение...

_______________________________________
ЧАСТЬ I
Просветов Р.Ю.
Тамбовская духовная семинария в годы правления священномученников Феодора (Поздеевского) и Симеона (Холмогорова)
Назначение нового ректора Тамбовской духовной семинарии
Основанная в 1779 году, Тамбовская духовная семинария была одним из крупнейших учебных заведений края. В начале XX века здесь обучалось от 550 до 600 воспитанников, из них 205 содержалось на казенный счет. Возглавлял семинарию ректор. В штате семинарии состояли инспектор, 27 преподавателей, 4 помощника инспектора и три надзирателя.
9 февраля 1904 года указом Святейшего Синода, инспектор Казанской духовной семинарии, иеромонах Феодор (Поздеевский) был назначен на должность ректора Тамбовской духовной семинарии, с возведением в городе Казани в сан архимандрита[1]. В свою очередь предшественник нового ректора, архимандрит Нафанаил, возглавлявший Тамбовскую семинарию два года, указом Св. Синода от 5 февраля 1904 г., назначался Епископом Козловским, викарием Тамбовской епархии.
“Тамбовские Епархиальные Ведомости” представляли нового ректора, как “человека гуманного и с широким мировоззрением”[2]. Архимандрит Феодор (в миру Александр Васильевич Поздеевский) происходил из семьи священника села Макарьевского, Ветлужского уезда, Костромской губернии. После Макарьевского духовного училища он продолжил свое образование в Костромской духовной семинарии и закончил его в Казанской духовной академии. Духовную академию будущий ректор окончил в 1900 году, со степенью кандидата богословия первого разряда (магистрант) и, как один из самых даровитых студентов курса, был оставлен на год в академии в качестве профессорского стипендиата при кафедре Патристики (где состоял с 15 августа 1900 г. по 15 августа 1901 г.). В первых числах июня того же 1900-го года был пострижен в монашество с именем Феодора и затем посвящен в сан иеромонаха.
Педагогическая деятельность иеромонаха Феодора началась еще на студенческой скамье, когда он, наряду с обязанностями студента академии, нес на себе преподавание разных предметов начального образования в одной из воскресных школ Казани. По окончании стипендиатского года, 17 октября 1901 г. иером. Феодор был назначен преподавателем богословских предметов в старшие классы Калужской духовной семинарии. Одновременно с этим Преосвященным Калужским Вениамином на него было возложено преподавание Закона Божия и Катехизиса в Калужском духовном училище. В Калуге иером. Феодор пробыл только один 1901-02 учебный год. 3 июля 1902-го года, по представлению Архиепископа Казанского, Высокопреосвященного Арсения, хорошо узнавшего о. Феодора в его стипендиатский год, состоялось назначение его на должность инспектора Казанской духовной семинарии.
На первых порах своей инспекторской службы иером. Феодор защищал в Казанской духовной академии свое сочинение: “Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (пресвитера Мессилийского)”, представленное на степень магистра богословия. Перед защитой диссертации им была произнесена прекрасная речь под заглавием “К вопросу о христианском аскетизме”, в которой он указал смысл и значение аскетизма в христианстве, в виду отрицательных мнений по этому вопросу в современной периодической русской печати. По предложению проф. Казанской духовной академии Л.И. Писарева, речь была напечатана отдельным оттиском при журнале “Православный Собеседник” за 1902-й год[3]. 10 января 1903 г., после защиты сочинения, иером. Феодор был удостоен Казанской духовной академией степени магистра богословия[4].
Таким образом Тамбовская духовная семинария в лице нового ректора получала не просто ученого богослова, знакомого к тому же с педагогической деятельностью в духовной школе, но и монаха-аскета, готового выступить на защиту Православия перед лицом современного мира.
Начало служения архим. Феодора на посту ректора
Прибыв 6 марта с утренним поездом в Тамбов, архим. Феодор тотчас же отправился для обычного представления к своему новому Архипастырю, Епископу Тамбовскому Иннокентию[5]. Владыка пожелал лично ввести о. Ректора в стены вверенного ему учебного заведения, чтобы представить семинарии нового начальника, а последнему — семинарию.
В половине второго часа дня еп. Иннокентий, в сопровождении архим. Феодора, прибыл в семинарию. После благословения и официальных представлений при встрече педагогической корпорацией своего архиерея и нового ректора все проследовали в семинарский храм, где по заранее полученному распоряжению собрались воспитанники семинарии. В дверях храма, при общем пении “Достойно”, владыку встретил с крестом духовник семинарии священник П.И. Добротворцев. Приняв крест, Его Преосвященство осенил им нового начальника заведения, проследовал в алтарь и, приложившись к престолу, вышел на амвон. Здесь, преподав общее благословение всем присутствующим, он обратился к начальствующим, учащим и учащимся с приветственной речью, в которой представляя Тамбовской семинарии ее нового ректора, охарактеризовал его как человека, успевшего в короткий срок приобрести себе служебную опытность в педагогическом деле и, кроме того, как ученого, имевшего научную известность.
“Вот, дети, отец ваш, а вот, отец ректор, Ваши дети!” — закончил свою речь еп. Иннокентий. Около 2 часов Владыка отбыл из семинарии в свои покои. После чего архим. Феодор, в сопровождении служащих, начал обозрение главного корпуса семинарии, посетил столовую во время обеда воспитанников, осмотрел церковь и ризницу, которую нашел, к своему удовольствию, более чем достаточной для домовой церкви, осмотрел также классы, спальни воспитанников, кухню и проч.[6]
Вечером в тот же день в семинарской церкви совершалось в присутствии архим. Феодора всенощное бдение, по окончании которого он обратился с амвона к воспитанникам со следующей речью:
“Весьма рад, новая моя братия, что первое наше знакомство с вами и первое наше обращение с вами — общение молитвенное. Надеюсь, что может быть за ваши-то юношеские и, конечно, более чистые молитвы Господь и укрепит меня и поможет мне побороть малодушие и смущение. Я говорю: смущение и малодушие, ибо ведь трудно не смущаться, видя столько юных душ, вверяемых моему попечению. Притом же вовсе ведь не легко, братие, снова начинать то дело, которое раньше уже было начато мной, не легко, конечно, завязывать новые духовные связи и порывать прежние. Ибо, ведь, если и во всякой работе, особенно в работе более или менее свободной и творческой, необходимо завязываются какие-то особенные внутренние отношения между работниками и предметом работы, тем, конечно, естественнее и даже прямо невозможно, чтобы в таком живом деле, как дело воспитания, где приходится иметь дело с живыми личностями, не устанавливалось тех или иных духовных соотношений. Вот почему я и говорю, что жутко и больно бывает и невольно смущаешься, когда приходиться порывать прежние духовные связи и начинать новые. Но пусть это будет некоторым испытанием и как бы своего рода крестом для нас воспитателей. Однако это еще не все: смущение еще больше делается, когда знаешь, что ведь эта же самая необходимость образовывать новые духовные связи касается и ваших сердец. Ибо ведь на ваших-то юных и чутких сердцах мы, молодые воспитатели, и делаем первые свои опыты, впервые проявляем свое умение или неумение понимать и вникать в душевный уклад и жизнь юношей. Кто знает, сколько, быть может, придется и вам испытать разочарований от одного неуменья подойти к вашим душам и понять ваши духовные нужды. Все это я говорю исключительно о себе и в тот момент, когда мы стоим лицом к лицу совершенно незнакомые друг другу. Конечно, и вы, и я в данное время заняты одним и тем же вопросом: как-то установятся наши отношения, каков буду я и каковы будете вы?
Впрочем, я в данном случае, кажется, нахожусь в более благоприятном положении, чем вы, ибо я еще раньше, хотя и совершенно случайно, имел знакомство с воспитанниками Тамбовской семинарии и присматривался к ним, и не скрою, результаты этих наблюдений были для меня очень приятные. По той же случайности и в академии лучшими моими друзьями, самыми близкими и задушевными, были те же воспитанники Тамбовской семинарии.
А так как в академию посылаются из каждой семинарии лучшие ее представители, то, мне, думается, можно без особенной ошибки и натяжки заключать, что все, что есть доброго и худого в этих представителей семинарии, должно быть свойственно в известной мере и всей семинарии. И вот меня очень радует и утешает то, что, судя по этим представителям семинарии, я должен встретить и в вас такие духовные качества и добрые свойства, которые должны радовать и ободрять всякого воспитателя, разумею: искреннюю религиозную настроенность, сердечную и необыкновенную привязанность и любовь к своей школе. Этими именно добрыми и симпатичными свойствами особенно поражали и удивляли меня те представители Тамбовской семинарии, с которыми мне приходилось быть знакомыми. И я буду искренно благодарить Бога и буду весьма утешен и ободрен, если и в вас действительно встречу эти именно добрые свойства и настроения. Ибо не я ведь, конечно, только думаю и считаю, что искренняя религиозность должна быть основой всякого воспитания, а тем более конечно воспитания в духовной школе. Скажите по совести, где же может выработаться у будущего деятеля, а тем более у делателя — пастыря, стойкость в добре и вера в него, где может поддерживаться тот идеализм, который так характерен для юношей, как не в атмосфере религиозной и церковной жизни. Вот почему мне и хочется при первом знакомстве с вами сказать вам: любите храм Божий и прилежите к нему; поверяйте здесь свои юношеские мечты и добрые порывы и здесь ищите сил у ног Распятого, на всякое доброе дело. Хочется сказать вам и еще: любите и свою духовную школу и дорожите ей. Знайте, что здесь вы составляете одну тесную, братскую семью; дорожите этим братством, ибо никогда уже в жизни не будет у вас больше той близости, той простоты и задушевности отношений, какие существуют у вас на школьной скамье. Знайте, что в жизни будет гораздо больше нравственного одиночества и вы только с грустью будете вспоминать о невозвратном времени почти беззаботной, дружной и братской жизни в стенах своей школы. Если в вас будут действительно эти добрые указанные качества, т.е. искренняя религиозность, сердечность и любовь к своей родной школе, то уповаю, что Господь устроит в мире и наше житие. Надеюсь, что мы скоро узнаем друг друга, ибо я не далек от вас и у нас будет, конечно, много случаев для непосредственного, личного знакомства. Не стесняйтесь поверять мне ваши нужды и скорби, ваши недоумения и затруднения, я буду принимать их близко к сердцу и по силам помогать вам”[7].
В Тамбовской семинарии архим. Феодор стал преподавать Св. Писание в VI-I кл.[8] Вместе с тем он активно включается в епархиальную жизнь, часто сослужит еп. Иннокентию, становится членом Тамбовского Казанско-Богородичного Миссионерского Братства и уже 11 апреля 1904 г. присутствует в акте годичного собрания его членов.
С 13-го мая 1904 г. архим. Феодор утвержден редактором неофициальной части “Тамбовских Епархиальных Ведомостей”. Прежде всего он обратился ко всем пастырям Тамбовской епархии с призывом сделать страницы их епархиального органа местом и средством для обсуждения “общих пастырских интересов и вопросов и для обмена мыслей”; это давало бы “им возможность постоянно чувствовать и сознавать, что ведь все они — пастыри —делают одно и то же дело Божие — созидают вверенную всем им Церковь Христову”[9]. О. Редактор писал: “В теперешнее время, кажется всего бы и нужнее и всего бы полезнее было, чтобы скромные делатели духовные объединились в их едином общем деле, да соединенными-то силами при взаимной поддержке дружно выступили на борьбу с разъедающими церковную жизнь язвами”[10].
Призыв был услышан, и страницы епархиальной печати стали заполняться интересными материалами о жизни священства и его проблемах. “Чем-то свежим, ободряющим, неслыханным веет этот призыв <...> к обмену мыслей по вопросам о пастырстве, к обсуждению общего дела в его многоразличных проявлениях, — таков был отклик тамбовского священства. — У многих из духовенства есть порыв высказаться, поделиться своими сельскими впечатлениями с другими, попросить совета в своей пастырской деятельности, но они до сего времени боялись писать, считая этот орган недоступным, помещающим на своих страницах только поучения и статьи официального характера”[11].
Заслуживает также внимания одна подробность церковного служения о. Ректора при Тамбовской семинарии. Им установлено было, чтобы сослужащее духовенство при вступлении его в храм, когда он служил, встречало его с крестом по подобию встречи епископов; потом в мантии, с посохом в руках, о. Ректор следовал к алтарю, здесь совершал молитву и, когда входил в алтарь, посох оставлял у местной иконы Спасителя. В некоторых других семинариях монашествующие начальники пытались вводить подобную встречу, но возбуждали в сослуживцах скрытое недовольство, являвшееся иногда источником многих служебных пререканий. Очевидно, в этом случае сослуживцами подмечалось стремление начальника с особой наглядностью оттенить свое высокое положение, достоинство, силу и власть. Не то было в отношении архим. Феодора к своим сослуживцам. Присутствующим всякий раз совершенно было понятно, что не превозношение властью, не услаждение своим высоким достинством руководили о. Ректором при установлении такой встречи. Напротив, все глубоко сознавали и, впоследствии, свидетельствовали об этом, что и встреча эта, и начальнический жезл в руках архим. Феодора вполне отвечали и его высокому внутреннему достоинству, и пастырскому учительству, и далеко незаурядному образованию. Эта духовная скромность и простота являлись отличительной чертой и начальнических отношений о. Ректора к сотрудникам и сослуживцам. Обращаясь к нему по своим служебным обязанностям и вопросам, они всегда видели и встречали в нем не столько начальника, сколько друга и разумного советника, необыкновенно скромного и доступного.
Вскоре архим. Феодора навещают в Тамбове его товарищи и близкие друзья по Казанской академии. Так, 11 мая 1904 г. на престольный праздник семинарии — свв. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских — вместе с архим. Феодором, в числе прочих, еп. Иннокентию сослужит профессорский стипендиат Казанской академии иеромонах Симеон (Холмогоров), как “временно прибывший к о. Ректору”[12]. А 25 июля, в день проводов из Тамбова Вышенской Казанской иконы Божией Матери в числе сослужащих еп. Иннокентию вместе с архим. Феодором значатся: инспектор Уфимской семинарии иеромонах Варлаам (Ряшенцев), преподаватель Киевской семинарии иеромонах Амвросий, профессорский стипендиат Казанской Академии иеромонах Симеон и кандидат Казанской Академии иеромонах Серафим[13]. Впоследствии иеромонахи Симеон и Серафим будут частыми гостями архим. Феодора в Тамбове.
С 14 ноября по благословению еп. Иннокентия в Тамбовской семинарии стали проводиться публичные еженедельные воскресные чтения, рассчитанные на запросы интеллигенции “по вопросам религиозно-философским и литературно-общественным”. Первое чтение архим. Феодор предложил на тему: “Современная моральная беспринципность в приложении к вопросу о характере христианской жизни”.
Трудности духовной школы
Много сил полагал о. Ректор и на воспитание Тамбовских семинаристов. “Скромно и незаметно это дело воспитания, — говорил архим. Феодор в своей речи при отпевании одного преподавателя семинарии, — но велико оно, ответственно и трудно. Велико оно тем, что здесь личная жизнь воспитателя как бы приносится в жертву жизни других и свои интересы заменяются интересами другого.
Ответственно потому, что созидается и формируется не бездушный материал и слепая сила, а цельная живая личность человека, призванная умножать и плодоносить истину и правду в жизни.
Трудно и мучительно потому, что и духовное рождение не бывает без тех болей и страданий, которыми сопровождается рождение телесное. И не думайте, братие, что эти боли и страдания касаются только рождаемых, всегда плачущих, нет они еще больше касаются рождающих; но только им одним, конечно, ощутительны и вполне известны эти страдания.
Тоже самое и здесь. Ведь отдать лучшую пору своей жизни, расцвет своих сил другим во имя их доброго созидания для жизни, это значит своими соками как бы питать многих и чувствовать, как каждое уходящее поколение уносит с собой часть этих сил. А заботы, а разочарования, а компромиссы совести, а необходимость видеть прямое непонимание истинно полезного, ради которого тратятся силы, разве же это не подвиг, разве же это не труд!? Только все это скрыто от взора, все это невидно и тайно, но тем-то оно и велико, что скрыто и тайно”[14].
Заботы, разочарования, компромиссы совести и прямое непонимание со стороны некоторых воспитанников и преподавателей корпорации семинарии — были воистину крестом для архим. Феодора.
Искренние, сердечные проповеди и речи о. Ректора, обращенные к семинаристам нередко публиковались в “Тамбовских Епархиальных Вестях”. Почти за каждым архиерейским служением один или два воспитанника семинарии посвящались в стихарь, что раньше случалось крайне редко. Однако, духовная семинария в тогдашнем ее виде представляла нечто странное, двусмысленное. Прямая цель семинарии — готовить воспитанников к духовному званию. Между тем, весь семинарский учебно-воспитательный строй решительно не соответствовал этой цели. Имел же основания один из епархиальных съездов духовенства в то время высказаться, что “ни одно учебное заведение не дает столь значительного процента людей индиферентных к религии, как духовная семинария”...[15] Так, из 11% от общего числа воспитанников, окончивших курс Тамбовской семинарии в 1905-1906 гг., 8% поступило в высшие светские учебные заведения. В 1906-1907 учебном году данное соотношение составило 6% от 10% окончивших курс.
В “Тамбовских Епархиальных Ведомостях” в это время была опубликована статья за подписью “недавний семинарист”, где говорилось:
“Вся забота начальства о духовно-нравственном “преуспеянии” воспитанников ограничивается формальным запрещением чтения книг известного направления (запрещением, порождающим обратное явление)[16] и посещения публичных мест, театров, концертов и пр. Ни для кого не тайна, что ограничения эти только в инструкции, а не в действительности. При желании семинарист всегда может совершенно безнаказанно, даже на глазах у начальства, погулять в городском саду, сходить в общественную читальню — посидеть за запретной книгой и побыть в театре или на концерте[17]. Инспекция карает за подобные проступки отдельных личностей, а вообще смотрит решительно сквозь пальцы. Да и дико было бы преследовать... Общий уклад семинарской жизни вырабатывает тип воспитанника, ни по вкусам, ни по настроению ничем не отличающегося от светской учащейся молодежи. Некоторые ограничительные меры делают разве только то, что семинаристы менее развиты в светском отношении, в смысле манер, что нужно назвать печальным фактом. Здесь, впрочем, необходимо оговориться относительно казеннокоштных воспитанников, живущих в общежитии, и своекоштных. Находясь под постоянным бдительным надзором инспекции — эти пользуются, естественно, меньшей свободой от требования инструкции. Отрицательные результаты общежитного режима налицо: в казенных корпусах и общежитных духовных семинарий издавна процветает пьянство, являющееся зародышем традиционного недуга нашего сословия... За отсутствием культурных развлечений “узникам” остается действительно “одна отрада и утеха, могуч оплот от мрачных дум — способна вызвать чувство смеха, заставить смело мыслить ум” (из семинарской песни).
И вот, не развиваясь ни в каком определенном направлении и не имея ясного плана на будущее, воспитанник вступает в богословские классы. Специальный характер программы последних двух классов приводит неподготовленного семинариста в смущение: у него рождается недовольство судьбой, заставившей заниматься нелюбимым делом...
Здесь у наиболее даровитых и энергичных субъектов и создается твердое намерение покончить с духовным ведомством, перейти в светское учебное заведение. Для того только, чтобы заручиться правами, они, насилуя себя, доканчивают семинарский курс. Большинство же покладистых семинаристов в силу необходимости мирятся с своим положением: “Нехотя, с греховным пренебрежением изучают они богословские науки и преспокойно оканчивают семинарию. И вот они — кандидаты священства, будущие пастыри “поневоле”... Этот “средний” семинарист, не находящий в себе достаточно сил выбиться из сословной колеи, и дает наибольший контингент служителей церкви. В особенности поистине “ловушкой” является духовная семинария для сирот, воспитывающихся на казенный счет... Эти последние под давлением материальной нужды, и пожалуй, некоторых обязательств за полученное образование, безропотно идут “на епархию”, не считаясь с сердечным влечением и запросами духа...
Прискорбно, что все окончившие семинарию, не пройдя ни какого нравственного искуса, по одному только образовательному цензу аттестуются, как правоспособные носить священный сан...”[18].
Несомненно, что тяжелое положение духовной школы в России вызывало озабоченность не у одного только “недавнего семинариста”. Выход из этого положения каждому виделся по-разному. Ситуация осложнялась еще и тем, что в России нарастало революционное брожение, и все чаще оно находило себе почву в тех же духовных семинариях...
Предвестники революционной бури
Тамбовская семинария поначалу не отличалась особенной революционностью среди других учебных заведений города. Однако уже с 1901 года в среде семинаристов стало заметно повышенное возбуждение, интерес к общественным проблемам, особенно к вопросу о реформе средних учебных заведений. Доходили слухи о волнениях в других семинариях, отголоски студенческих волнений, жадно читались газетные статьи, осуждающие порядки духовной школы. В октябре 1901 г. в Тамбов приезжает, как стало известно Департаменту Полиции, под чужим паспортом молодой человек, назвавший себя Быстровым. Он представился агентом “Центрального организационного совета семинаристов”[19], место пребывания которого было в Казани.
По инициативе Быстрова в Тамбове из небольшой группы воспитанников был создан местный организационный совет семинаристов, возглавлявший движение. Налажена была переписка с казанским советом, откуда присылались прокламации, письма и руководящие указания. Для соблюдения секрета переписки был выработан свой шифр. Вскоре семинаристы сумели приобрести гектограф для печатания прокламаций и воззваний[20]. Естественно, что, говоря здесь о семинаристах, следует разуметь лишь весьма ограниченный круг воспитанников, о чем упоминают и сами “подпольщики”: “Лишь небольшая часть семинаристов состояла в организациях, главным образом, социал-революционеров и вела подпольную работу”[21]. Нужно также отметить, что остальная часть, примыкавшая к подпольной работе, состояла либо из сочувствующих, либо просто интересующихся. Через единичных воспитанников, так или иначе связанных с революционными организациями, направлялась и вся деятельность подпольщиков в семинарии. Это подтверждается и приобретением гектографа, своих средств на который у семинаристов вряд ли бы достало.
Совет организации устраивал тайные сходки и собрания на квартирах учеников в городе. Семинаристы-подпольщики выработали требования по преобразованию духовной школы и предполагали внести их в петицию на имя Св. Синода. Однако осуществить задуманное не удалось, так как начальство узнало о готовящемся выступлении и оно началось преждевременно. Взбунтовавшиеся воспитанники разгромили учебный инвентарь, выбили стекла[22]. Власти закрыли семинарию, уволив 200 воспитанников, в том числе 50 человек без права поступления. Удалось выявить и главного вожака движения — ученика VI класса Петра Бельского, который имел широкую популярность не только среди семинаристов, но и среди учащихся города Тамбова[23].
По поводу этого и других волнений в семинариях канцелярия обер-прокурора Св. Синода сообщала Преосвященному Владыке г. Тамбова:
“Исследование показало, что во всех сих случаях главная вина лежала на начальственных лицах, коими поручено было управление заведением и надзор за воспитанниками, в их равнодушии, небрежности, неумении обращаться с юношеством, упорной привычке скрывать от высшей власти происходившие во внутренней жизни заведения беспорядочных и развратных явлений. Таким образом, годами копилось иногда зло под покровом тайны, расшатывались в заведении внешняя и нравственная дисциплина, укоренялись привычки, с одной стороны, к безотчетному произволу, с другой, к своеволию, дотоле, но общий беспорядок, переходя в мятеж и открытые буйства, не мог более быть скрываем”[24].
Следовательно, причины волнений во всех семинариях были схожими. В семинарию шли, в основном, не для того, чтобы потом служить Церкви, а потому, что это был более дешевый способ обучения детей духовенства и по некоторым, уже упоминавшимся выше, обстоятельствам. Так, например, тамбовский семинарист К.В. Островитянов впоследствии вспоминал: “Окончание четырех классов семинарии давало право поступления в ряд высших учебных заведений, в том числе в Коммерческий институт, где я мечтал учиться”[25], — и далее, — “...меня манил большой город, высшее образование и перспектива нового подъема революционного движения, вкус к которым я почувствовал в годы семинарских волнений”[26].
Отсюда и соответствующие требования бунтовавших: “Почему затруднен доступ семинаристам в университеты, почему Священное писание проходят шесть лет, а физику лишь один год?”[27]
“Школы оставались сословными, а ученики их, по окончании семинарии, в огромном большинстве, уходили по разным мирским дорогам: в университеты, в разные институты, в учителя, в чиновники и только 10-15 процентов шли в пастыри. И, конечно, таким семинаристам не очень нравились многие духовные порядки, а если они и терпели их, то по нужде, чтобы получить права”, — вспоминает воспитанник Тамбовской семинарии митрополит Вениамин (Федченков)[28].
Поэтому, позже, “погорячившись” в марте 1905 г., известные революционеры К.В. Островитянов, А.К. Воронский и многие другие просили принять их обратно в семинарию. Но если некоторых и принимали, то они снова уходили в “подполье” для борьбы за мнимые “права” и “свободы”.
В проповедях этого периода, обращенных к воспитанникам, архим. Феодор призывал в сложное время внутренних неурядиц и внешней войны с японцами к миру и единению, приводя в пример Монарха: “...ведь около престола и в лице Государя как бы запечатлевается и выражается весь народный облик, душа целого народа, все те чаяния и идеалы, которыми живет целая народная душа русской нации. А вот эта-то народная душа, исторически показавшая себя хранительницей мира и смирения, душа, чуждая хищнических и корыстных стремлений народов, живущих только по идеалам “мира сего”, и уязвляется теперь, и содрогается, и болеет, когда вместо мира и любви насильно приходится нести смерть и горе, когда эта смерть и горе коснулись уже многих сынов России и многих облекли в траур.
Мы все почти были свидетелями и видели здесь недавно, как горе и боль этой народной души отражались в сердце того, кто поставлен Богом на страже этой народной души — в сердце нашего Государя[29]. Видели все его скорбный лик, скромный и горячо молящийся о благе и мире народном, о радости и счастии врученного ему Богом народа. Да, братие, ведь если велико и почтенно в нашем сознании, так называемое, мученичество за идею и мученики идеи окружаются обычно ореолом славы и величия, то вот это-то мученичество за христианскую идею мира и любви, за которую приходится болеть и страдать нашему возлюбленному Монарху, воистину святой и великий подвиг.
Ведь то, что без сомнения составляло и составляет заветную и святую мечту нашего Христолюбивого Государя — принести народу мир и охранить спокойное развитие внутренней народной жизни, — теперь как бы поругано и попрано, и боль от этого должна чувствоваться тем сильнее, чем более было положено силы и веры в торжество мирной идеи. Эта боль и скорбь от поругания святыни души должны, конечно, братие, чувствоваться и всеми нами в силу единства самой народной души; эта же боль и сочувствие к своему Монарху должна побудить всех сынов России к тому внутреннему единению в мыслях, в чувствах, в понимании самого блага народного, которое способно влить энергию, ободрить и сделать сильным всякую народную — общественную организацию. К этому внутреннему единению зовет нас, конечно, всякая, но особенно нынешняя церковно-общественная молитва; она побуждает нас стать во всеоружии молитвенной веры и любви на стражу отечества и общественного спокойствия, ибо словами Св. Апостола она увещает нас: “прежде всего творить молитвы, прошения, моления и благодарения за царя и за всех, иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте” (1 Тим. 2, 1-2). Тем-то и велико христианство, что оно и чисто внешнюю юридическую организацию государственной жизни хочет проникнуть нравственным началом внутреннего единения и сделать ее формой нравственного усовершенствования жизни; тем то и велико и сильно христианство, что оно способно так называемый долг гражданский обратить в долг совести и нравственного закона и служение благу государственному обратить в чисто нравственное служение “благочестию и чистоте”[30].
Однако слова архим. Феодора для многих оставались гласом вопиющего в пустыне. Революционная волна 1905-го вскоре захлеснула и Тамбов...
Начало волнений в Тамбове и Тамбовской семинарии
Первыми в Тамбове объявили забастовку 150 учащихся Екатерининского учительского института. 23 марта 1905 года в 10 часов утра они подали петицию директору института, состоящую из 18 пунктов, с требованиями созыва Учредительного собрания, пересмотра учебных программ, участия делегатов от учащихся в педагогических советах, свободы религии, отмены экзаменов и балльной системы и проч. Прибывшие войска блокировали учащихся в институте и не дали им выйти на улицу.
24 марта в Тамбове состоялось многолюдное собрание “Общества попечения о детях”, где присутствующие выкрикивали лозунги: “Долой самодержавие!” и пели революционные песни, а в 12 часов ночи почти все вышли на улицу и попытались освободить забастовщиков.
26 марта решилась выступить и группа воспитанников Тамбовской семинарии. После первого урока, несколько семинаристов во главе с Александром Воронским, Александром Любвиным и Иваном Мелиоранским подошли к учительской комнате и, вызвав в коридор о. Ректора, стали требовать от него позволения собраться им одним, без начальства, в актовом зале для обсуждения своих нужд решения разных вопросов. Архим. Феодор, зная, какой характер будет иметь эта сходка и решением каких вопросов они желают заниматься, не разрешил им устроить этого собрания, приглашая всех разойтись на уроки. Несмотря на это, путем обмана и всяческих уловок (в частности, объявление о якобы должной состояться панихиде) группе семинаристов, членов подпольной организации, удалось собрать в актовом зале до 200 человек воспитанников, главным образом, первых трех классов, многие из которых пришли из простого любопытства. Когда о. Ректор пришел в зал, там с кафедры Александр Воронский и Иван Мелиоранский говорили что-то собравшейся группе воспитанников. После решительных заявлений о. Ректора о том, что желающие заниматься пусть идут в классы, а не желающие будут уволены из семинарии как нарушители спокойствия, многие пошли было из зала в классы, но вследствии угрозы Воронского не расходиться, часть их снова осталась. Однако, в конечном итоге, призыв поддержать забастовку не был услышан, и занятия продолжались обычным порядком. В перерыве между окончанием уроков и всенощным бдением агитаторы пытались еще раз устроить в здании семинарии сходку, но она не удалась, так как явились только они одни, в числе 15 человек. Оставалось последнее средство — сорвать занятия в семинарии, а именно — устроить бунт, в надежде, что “под шумок” к нему присоединятся и другие воспитанники дотоле пассивные. После всенощной вышеупомянутая группа организовала “буйство”. Вот как описывал позже, несколько приукрасив это событие, тот же Воронский: “Всенощная окончилась. Первые толпы семинаристов заполнили коридоры. Лампы всюду загасили. Били стекла, срывали с петель двери, вышибали переплеты в оконных рамах, разворачивали парты. Беспорядочно летели камни. Один работал палкой, другой поленом, третий просто кулаком. Рев, гам, свист, улюлюканье, выкрики, ругательства, сквернословие.
— Бей!.. Долой!.. Держись ребята! Лупи субов, учителей! Не давай спуску! Довольно издеваться над нами! Да здравствует Учредительное собрание!
Коридоры наполнялись оглушительным грохотом. Казалось, в ночи бьется, огромная, чудовищная, зловещая птица: махнет крылами — вылетают рамы, двери, вот она долбит клювом, вот кричит, шипит, словно бросается на врага и просится и рвется наружу, на простор ... Я познал упоительный восторг и ужас разрушения, дрожащее бешенство, жестокую, злую и веселую силу, опьяненность... радостное от чего-то освобождение”...[31]
В Журнале Педагогического Правления сообщалось, что “бунтовщики” даже пытались произвести насилие над членами корпорации, но когда прибыла полиция, буйство прекратилось, тем более, что оно так и не встретило сочувствия со стороны остальных воспитанников семинарии, которые смотрели на все это, стоя в стороне. Главные участники беспорядков в числе 20 человек были тут же уволены из семинарии, а воспитанников распустили до Фоминой недели, чтобы после пасхальных каникул снова начать обычные занятия, о чем и было вывешено объявление. На следующий день группа сочувствующих забастовке, видя, что их попытка совершенно прекратить занятия в семинарии не удалась, снова пытались произвести “буйство” около учительской комнаты и в коридоре даже подожгли бумаги[32].
27 марта забастовали мужская и женская гимназии, реальное училище и другие учебные заведения города, но намеченный ранее план общих выступлений осуществить не удалось. Со 2 апреля 1905 года занятия в учебных заведениях Тамбова, за исключением духовной семинарии, возобновились[33]. Однако уже в мае в семинарии начались экзамены, которые закончились 27 мая. А 29 мая, в воскресенье, была совершена последняя прощальная литургия и благодарственный молебен. По окончании молебна о. Ректор подпустил всех к кресту и благословил каждого из окончивших семинарский курс иконой. По окончании богослужения все они собрались в актовом зале, где архим. Феодор имел с ними беседу и высказывал свои пожелания, чтобы из них как можно больше вышло деятелей на ниве Христовой, а желающим продолжать свое образование в светских высших учебных заведениях — бодро и смело выступать на служение науке и родному государству. Затем все собравшиеся перешли на квартиру архим. Феодора. Здесь один из них прочитал адрес в стихах, посвященный о. Ректору.
В знак своей любви питомцы поднесли архим. Феодору полное собрание творений св. Григория Богослова, св. Григория Нисского, преп. Нила Синайского и вышедшие новым изданием Санкт-Петербургской Академии творения Иоанна Златоуста.
Архим. Феодор, в свою очередь, выражал подносившим искреннюю горячую благодарность за расположение к себе и школе...
С 5 июля по 1 августа Ректор семинарии архим. Феодор находился в отпуске.
Тамбовский Союз русских людей
В ходе революционных событий внутренняя атмосфера в Тамбовской семинарии значительно накалялась. Разваливалась дисциплина среди учащихся, в среде преподавательской корпорации возникало так называемое “разномыслие по общественным и педагогическим вопросам”. Росло недовольство существующими в семинарии внутренними порядками. Естественно, смотреть равнодушно на все это архим. Феодор не собирался. Чтобы “во всеуслышание доказать, что русский народ вовсе не держится того образа мыслей, какой ему хотят навязать его самозванные представители” (главным образом, лидеры политических партий) “возникла мысль образовать в г. Тамбове общество, которое поставило бы своей задачей — содействовать мирному процветанию отечества, основанному на единении православного и самодержавного Царя с православным русским народом”[34].
Чтобы осуществить эту мысль, необходимо было найти лиц, ей сочувствующих, и собрать их предварительные подписи. Этот труд взяли на себя два члена общества и посвятили ему целые три месяца — июль, август и сентябрь 1905 года. К концу сентября количество сочувствующих делу и желавших вступить в общество достигло такой цифры, что можно уже было устроить первое собрание, которое и назначено было на 5 октября.
Первое время собрания проводились на квартире архим. Феодора.
Манифест 17 октября окончательно развязал обществу руки и привел к тому, на что первоначально общество не решалось. 23 октября собрание постановило образовать совершенно самостоятельное общество со своей собственной организацией. На этом же собрании выбраны были — председатель (архим. Феодор), товарищ председателя, члены временного собрания и казначей для сбора добровольных пожертвований на нужды общества.
На собрании 30 октября решено было присвоить обществу название Тамбовского Союза русских людей, дело же организации Союза закончено было избранием секретаря.
В воскресенье, 6 ноября, в здании Серафимовского духовного училища, состоялось первое довольно многолюдное заседание членов учредителей Союза, которое рассматривалось как официальное открытие общества.
Перед началом заседания в храме училища, сооруженном во имя преп. Серафима Саровского, совершено было в 61/2 ч. вечера присутствовавшим на собрании духовенством с о. Ректором семинарии во главе молебствие преп. Серафиму. Перед началом молебна архим. Феодором было сказано слово о свободе совести и о православии, как основе русской государственности, а в конце молебна было произнесено многолетие Государю Императору и всему царствующему Дому. Пел хор Знаменской церкви под управлением Сидельникова, пожелавший безвозмездно принять участие в торжестве. По окончании молебна присутствовавшие, в количестве более 200 человек, перешли в актовую залу училища, где перед портретом Государя Императора был исполнен гимн “Боже, Царя храни”. По открытии собрания было прочитано приветствие вновь открывающемуся Союзу от Преосвященнейшего Иннокентия, Епископа Тамбовского и Шацкого, адресованное на имя о. Ректора и присланное ему вместе с иконой преп. Серафима, которою Владыка и благословил новый Союз.
В своей речи при открытии Союза архимандрит Феодор сказал: “Нам, русским людям, нужно крепко держаться за веру православную, и, давая спокойно и мирно каждому чужеземцу исповедовать свою веру и молиться по-своему, в то же время зорко блюсти, чтобы не обольстил нас кто-либо лукавыми словами, будто все веры равны и наша православная не лучше других. Зорко нужно блюсти, чтобы не посмели нас, православных, отторгнуть от нашей веры и увлечь на путь ереси латинской или неверия языческого. Пусть будет вера наша православная по-прежнему господствующей у нас на Руси, а все прочие только терпимыми, без права миссионерства на счет Православия. Иначе встанут пред нами целым сонмом древние наши Святители, угодники и преподобные, благочестивые Цари, бояре и миряне и скажут нам с укором: изменники. И случится, что Господь за неверие наше отнимет от нас святыни наши, помогавшие нам в трудные времена, как отнял уже Казанскую чудотворную икону Божией Матери”[35].
В заключение собрания, когда выяснилось полное единомыслие собравшихся в основных вопросах, постановлено было послать Государю Императору телеграмму с выражением верноподданических чувств и незыблемой веры в крепкую самодержавную власть. Текст этой телеграммы, одобренной всеми собравшимися, гласил:
“Ваше Императорское Величество! Тамбовский Союз русских людей, в день своего открытия, помолившись преп. Серафиму, повергает к стопам Вашего Величества свои верноподданнические чувства и выражает полную готовность служить умиротворению и процветанию отечества на почве единения самодержавного царя с православным русским народом”[36].
Собрания Тамбовского Союза проходили воскресными вечерами, с 19 до 22 часов, в актовом зале Серафимовского училища. Народу приходило много. “Часть посетителей размещалась на стульях и диванах, большая же часть во время многолюдных заседаний (400-500 человек) оставалась стоя, на что, впрочем, никогда не роптала[37].
Начинались и оканчивались собрания пением молитв. Затем читались брошюры, предназначенные для напечатания и распространения среди простого верующего народа, после чего “присутствующие обменивались мнениями по разным вопросам общественной жизни и вырабатывали общие меры своей деятельности”. Чаще всего обсуждались вопросы об укреплении и поддержке Святой Церкви Христовой; о необходимости хранить присягу, данную Царю, быть верными ему и властям, от него поставленным. Говорили о необходимости помочь русскому крестьянину в его нужде, но только не путем грабежа чужого добра и насилия, а более законным и справедливым путем реформ; о защите русского народа от притеснителей эксплуататоров-инородцев[38].
Определенно и ясно высказывал Союз свою позицию по отношению к событиям времени: по поводу политических убийств “выражая свое негодование, а жертвам их **— свое сочувствие. Негодование выражал Союз и по поводу забастовок, губящих Россию морально и материально, в особенности забастовок учащейся молодежи”[39].
Уже 27 ноября на очередном собрании Союза в своей вступительной речи председатель — архим. Феодор сообщил — “как о недоброжелательном и даже враждебном отношении к Союзу со стороны известной части общества, так и о весьма большом сочувствии к нему со стороны людей благомыслящих из среды светской и духовной; сообщил также о просьбе сельских батюшек присылать им как можно больше брошюр и воззваний для раздачи крестьянам, которые целыми приходами изъявляют желание присоединиться к Союзу. Как на особенно отрадное явление, председатель указал на возникновение Союза русских людей в г. Козлове, в качестве отделения Тамбовского Союза и, так как Козловцы желают видеть на предстоящем открытии их Союза представителей от Тамбовского Союза, предложил собранию выбрать депутатов. Избрана была депутация — сам председатель Союза — о. архимандрит Феодор, товарищ председателя, М.Т. Попов, о. протоиерей Бельский, С.П. Дедов и Ф.П. Рождественский”[40].
Союз, состоявший в сентябре из 100 человек, менее чем через полгода насчитывал уже более 10 000 членов всех сословий и состояний; были в нем дворяне, купцы и мещане, были железнодорожники, но большинство составляло православное русское крестьянство. Большую роль в пополнении Союза играли приходские священники, которые вместе с целыми приходами вступали в его ряды.
На сельское духовенство также возлагалась особая роль в предстоящих выборах в Государственную Думу. В своей статье “Духовенство при выборах в Государственную Думу” архим. Феодор писал, что “само положение духовного пастыря, его близость и связь его с простым народом и большая осведомленность потому об его нуждах; самое доверие к пастырю народа, который видит пока еще слава Богу в батюшке своего не только духовного отца, но и лучшего советчика по всем почти делам житейским, — все это само собой налагает на пастыря прямо нравственный долг, без всякого искусственного навязывания себя в советчики, руководить народом в этом великом деле выборов в Думу. Наше православное духовенство при том же менее всего партийно в политическом отношении, как и подобает пастырю Христову, оно не политиканствует и не стремится к светской власти; об этом говорит вся история нашей церковной и гражданской жизни; а между тем своим нравственным влиянием, как носитель совести, законности и правды в духе Христова учения, наше духовенство имело громадное значение в Государственной жизни нашего отечества. И вот теперь, когда наше отечество переживает такой важный момент, и все будущее нашего отечества определится правильным разрешением и использованием настоящего момента, православное духовенство своим нравственным влиянием и светом Христовой правды должно посодействовать правильному и благодетельному разрешению кризиса в нашей Государственной жизни, дабы общая болезнь приняла исход к выздоровлению, а не к смерти ... Вообще, нам думается, что пастыри при выборах в Думу должны приложить все старание к тому, чтобы русские люди, оставив всякую рознь и вражду личную, и племенную, сословную и религиозную принесли с собой в Государственную Думу искреннее намерение возвеличить Россию и обновить ее на началах исконной жизни русского народа — православия, самодержавия и народности”[41].
Взгляд на Государственную Думу и роль духовенства в ней также были определены: “...так как Самодержавной власти русского монарха в настоящее время грозит великая опасность и враги ее хотят ограничить ее посредством Думы, превратив Думу в конституционный парламент, решениям которого Государь должен подчиняться, то пастыри и сами и через тех, кого выберут в Думу, должны отстаивать Самодержавную власть, но не в прежней ее форме бюрократического абсолютизма, созданного Петром, а в исконной и самобытной русской форме с правом совета и мнения за выборными от народа. Пастыри и сами и другим выборным должны внушать мысль, что Дума не должна явиться сколком с иноземных парламентов, но должна приближаться к тем земским соборам, которые были в допетровской Руси. От Самодержавной власти Царя должно зависеть указание тех функций, в пределах которых Дума должна иметь решающее значение, а в остальном она должна удерживать совещательный характер”[42].
“Признавая главным средством борьбы с революционным настроением общества убеждение при помощи слова и печати”, за первый год своего существования Союз выпустил 40 наименований отдельных листков и брошюр (общим количеством более 500 тыс. экземпляров), “составленных по большей части Председателем о. архимандритом Феодором и тов. Председателя М.Т. Поповым”. Эти издания распространялись на каждом собрании и рассылались по требованию в разные места, даже далеко за пределы Тамбовской губернии, например, в Шую, Иваново-Вознесенск, Пензу, Сердобск, Рязань, Каменец-Подольский, даже в Баку и Шемаху; в села и войска. Как писал журнал “Мирный труд”, “этими листками парализовалось влияние революционных листков, до того времени деятельно распространявшихся”[43].
Активная деятельность архим. Феодора и возглавляемого им Союза обратила на себя внимание революционно настроенных людей, которые стали видеть в нем “реакционную силу” — ту силу, которая стремилась удержать Россию на прежних благодатных путях ее истории. Поэтому не случайно “у местной подпольной партии террористов был составлен список лиц, которые должны были быть убиты: среди этих лиц был и о. Ректор семинарии”[44].
Дальнейшее развитие революционных событий
С 1 сентября 1905 года, после молебна, в Тамбовской духовной семинарии начались занятия. Всех воспитанников насчитывалось 638. Причем казеннокоштных воспитанников еще на январь 1905 г. в семинарии имелось 205, из них 20 — осиротевшие в войну с Японией дети офицеров нижних чинов[45].
Учебный год начался при весьма неблагоприятных обстоятельствах. В рапорте преподавателя гражданской истории и греческого языка Николая Лебедева говорилось: “Не успокоившиеся еще от мартовских беспорядков прошедшего учебного года, воспитанники явились в семинарию в значительной степени возбужденными разного рода политическими прокламациями и воззваниями молодежи. Во всех классах, а особенно в низших, за немногим исключением, воспитанники занимались вяло, неохотно. Небрежно относились к своим обязанностям”[46].
28 сентября состоялась демонстрация учащихся гимназии, реального училилща, Екатерининского института и других учебных заведений, которая направилась к Казанскому собору и потребовала отслужить панихиду по жертвам революционных беспорядков в Москве[47]. А уже 11 октября, собравшиеся в актовом зале воспитанники Тамбовской семинарии пригласили архим. Феодора для того, чтобы он выслушал их заявление и довел его до высшего начальства. Когда о. Ректор и многие преподаватели пришли в зал, воспитанник IV класса Аристарх Митропольский от лица всех семинаристов с кафедры зачитал неизвестно кем составленную петицию из 16 пунктов, суть требований которых сводилась к преобразованию духовного училища и семинарии в общую 10-летнюю школу с лекционным способом преподавания в 3-х старших классах и отменой балльной системы. Требовалось также расширить преподавание естественных дисциплин за счет сокращения богословских. В числе требований, “подлежащих немедленному исполнению”, значились: свободный доступ всем окончившим 4 класса семинарии во все высшие светские учебные заведения, а окончившим 6 классов — в духовную академию без экзаменов, свобода собраний для гласного обсуждения своих нужд и устройства кружков для самообразования без контроля начальства, право посещения общественных собраний, свобода перехода воспитанников в другие семинарии без аттестации семинарского начальства, свободные отлучки до 10 часов вечера и многое другое. Причем заявлялось также, что воспитанники не приступят к занятиям до тех пор, “пока специально в газетах не будет объявлено о том, что Синод удовлетворил требования, подлежащие немедленному исполнению, и приступил к разработке требований общего характера”[48].
Архим. Феодор, взяв петицию, обратился к воспитанникам с речью, в которой отметил всю непригодность забастовки как средства к ускорению реформ особенно тогда, когда вопрос о реформе духовных школ уже достаточно назрел и получил свое движение. Обещая представить петицию Его Преосвященству, о. Ректор, однако, пригласил желающих продолжать занятия, но на это никто из воспитанников не отреагировал. При выходе же из зала архим. Феодора пригласили в свою классную комнату воспитанники VI класса и там просили доложить Его Преосвященству, что они желают заниматься, причем передали список желающих с собственными подписями. Такое же заявление сделали воспитанники V класса и представили свой список, а также несколько человек IV и др. классов[49].
По поводу всего происшедшего, после доклада архим. Феодора, Его Преосвященством были посланы телеграммы на имя Его Высокопреосвященства митрополита Антония и обер-прокурора Св. Синода следующего содержания: “Прибывшие из соседних семинарий агитаторы, заставили воспитанников Тамбовской семинарии подать ту же петицию, что и в Харьковской. Первые четыре класса согласились и отказались заниматься, V и VI классы просят продолжать занятия. Прошу разрешения первых отпустить, а последним заниматься”. На эту телеграмму в тот же день был получен ответ от Его Высокопреосвященства: “Примите меры к ограждению желающих заниматься, прочих отпустите” и от обер-прокурора Св. Синода: “Благоволите поступать по Вашему предположению”[50].
12 октября 150 гимназистов, реалистов и семинаристов, многие с палками, ворвались в 2 часа дня в здание Тамбовского реального училища и требовали прекращения занятий[51].
Таким образом, забастовали почти все светские учебные заведения г. Тамбова. Учитывая это, а также то, что забастовщики терроризировали желающих заниматься, архим. Феодор просил Его Преосвященство прекратить занятия во всех классах семинарии и распустить желающих заниматься на некоторое время. Сделать это необходимо было и потому, что после забастовки на железной дороге и прекращения движения поездов, забастовщики не могли разъехаться по домам и препятствовали бы занятиям желающих. Его Преосвященство на эту просьбу дал свое согласие. Занятия во всех классах были прекращены.
Примечательно, что Правление семинарии было поставлено в затруднительное положение как в отношении мер взыскания к виновникам забастовки, так и в деле предупреждения подобных явлений в будущем. Дело в том, что в конфиденциальном отношении Учебного Комитета от 21 декабря 1901 г. по поводу происходивших тогда беспорядков в семинариях было сказано, что “массовое уклонение от учения ни на один день терпимо быть не может”, и в бывших доселе подобных случаях немедленно следовало распоряжение высшей церковной власти распустить всех воспитанников и всех признать уволенными из семинарии с тем, “что новое поступление в оную может последовать не иначе, как по новым прошениям, чем все оказавшие себя преступными и неблагонадежными вовсе не будут приняты или, в благоприятных случаях, принуждены будут ждать до следующего учебного года”. “Так будет поступлено впредь со всеми семинариями, в коих масса учащихся доведет себя до подобного беспорядка”. Но “ввиду общего характера семинарских движений, имеющих тесную связь с событиями государственной и общественной жизни”, Правление семинарии не применило в данном случае указание Учебного Комитета[52].
После целого ряда мер, предпринятых по распоряжению епископа Иннокентия, 1 ноября начались занятия с воспитанниками V и VI классов. Однако искренне желающих заниматься оказалось немного, а большинство проявило желание или из боязни огорчить родителей, или по материальным расчетам. Вскоре следует битье стекол в квартирах некоторых преподавателей. В конце концов и воспитанники V и VI кл. не выдержали; половина из них прекратила занятия, а другая продолжала заниматься. В своем рапорте преподаватель Николай Лебедев отмечал, что “может быть под влиянием угроз со стороны забастовавших воспитанников, вскоре среди воспитанников VI и V классов обнаружилось разделение на две враждебных партии, бойкотизация друг друга нелегальными средствами, вроде прокламаций или воззваний к обществу с обвинениями против партии. Прокламации и угрозы, — свидетельствует Лебедев, — были также со стороны не учащейся молодежи и по адресу преподавателей были употреблены даже насилия”[53]. В связи с этим Правление семинарии просило архим. Феодора ходатайствовать перед Его Преосвященством о прекращении занятий в семинарии. Но “Его Преосвященство приказали продолжать занятия до конца трети”[54]. “В это последнее время, — продолжает Н. Лебедев, — вражда партий сделалась откровенной и мне, как временно исправлявшему должность инспектора (бывший до того инспектором Павел Потоцкий был к тому времени уволен, согласно прошению, по семейным обстоятельствам — Прим. Р.П.), приходилось нередко увещевать обе партии примириться между собою и не употреблять насилия. Соглашаясь на последнее, обе партии не отказывались от бойкота в других формах”[55].
24 ноября Его Преосвященство, сам явившись в семинарию, собрал всех воспитанников в общий зал и “лично увещевал примириться обе партии и предложил на обсуждение взаимных между собою недоразумений три дня”. На другой день ученики V и VI классов с разрешения о. Ректора собрались в столовой и “после двухчасовых переговоров, вынесли резолюцию о прекращении занятий”, которую по прочтении в присутствии преподавателя Н. Лебедева, врача И.П. Звонарева, преподавателя И.П. Гагарина и дежурных помещения инспектора семинарии, представили ректору, а затем и Его Преосвященству. Другие, — в количестве 60 человек, — пожелали продолжить занятия, но по распоряжению Владыки 1 декабря учебные занятия были прекращены[56].
Вслед за этими событиями указом Его Императорского Величества от 20 декабря 1905 г. сообщалось о Высочайшем соизволении на предоставление Министерству Народного Просвещения права разрешать прием воспитанников духовных семинарий в университеты[57].
Указом Святейшего Правительствующего Синода от 22 декабря 1905 года, по делу о возобновлении учебных занятий в духовно-учебных заведениях, объявлялось, что “все те духовные учебные заведения или отдельные классы в сих заведениях, в коих учащиеся не приступят к занятиям непосредственно после Рождественских каникул и во всяком случае не позднее 15-го января 1906 г., надлежит считать закрытыми до начала 1906 учебного года”[58]. Что касается коллективных заявлений семинаристов, то Св. Синод определил, что “такие заявления являлись лишь нарушением основных начал порядка и дисциплины, без коих невозможно ни обучение, ни воспитание ни в одной школе” и что они “не могут вовсе подлежать рассмотрению. Преобразование семинарий будет основано на признанных церковною властью началах, к выработке коих привлекаются лучшие педагогические силы духовного ведомства, а отнюдь не может быть следствием тех или иных пожеланий, высказанных незрелыми питомцами школы и притом с прямым отказом исполнять лежащие на них обязанности”[59].
Вопрос о реформе духовной школы
Конечно, вопрос о реформе пастырской школы назрел давно, но очевидной становилась и необходимость общей реформы церковного управления. Без этого какие-либо другие изменения были бы малоэффективными. Открывшееся при Св. Синоде в марте 1906 года Особое Присутствие для подготовки к Собору с большим вниманием отнеслось к трудностям духовных школ. Однако единого мнения по разрешению этих трудностей так и не возникло.
На первом пастырском собрании духовенства Тамбовской епархии, происходившем в Тамбове 25/27 января 1906 года, архим. Феодор “по желанию многих” докладывал: “Сознаюсь, что не имею достаточной опытности, хотя два последних беспокойных года все же дали мне такой опыт, которого не дадут и 15 лет спокойной жизни. По моему мнению, желательно внести в воспитательное дело как можно более семейного, нравственного начала. Я думаю, что цель нашего собрания — услышать от пастырей решение вопроса о преобразовании пастырской школы; от вас, о.о., зависит, чтобы наша школа не была бременем для церкви. Это — один вопрос. Другой вопрос — частный, касающийся только нас и только в настоящее время: должны ли мы заниматься теперь, терпеливо дожидаясь церковного собора, и реоформ? Думаю, что некоторые из Вас читали мою записку о реформе духовной школы[60]: в ней я провожу ту мысль, что необходимо создать совершенно особый тип пастырской школы. Начало, разъедающее нашу школу, — двойственность в ней: она школа профессиональная и сословная, но она же и общеобразовательная. Отсюда постоянная борьба направлений светского и духовного, и перевес, кажется, на стороне светского: заведена форма, поощряется посещение театра и проч. Вместе с тем, стремление усилить религиозный элемент — хотя бы, напр., преждеосвященными литургиями, которые я, к слову сказать, нахожу излишними. Пастырское настроение создается не количеством богословских предметов, а всем духом школы. Теперь, при каждой попытке придать больше церковности, чувствуешь, что светское начало берет верх: лишняя стихира за всенощной возбуждает бурю. Состав преподавателей также имеет большое значение: светский не может воспитывать будущих пастырей, наши учителя семинарии не считают даже нужным ходить в нашу семинарскую церковь наряду с воспитанниками. У нас господствует двойственность морали воспитания: одна для питомцев, другая для воспитателей и наставников: исполняй, пока в школе, а потом можешь оставить (напр., выпить и проч.). Наши воспитанники чувствуют себя в школе невольниками положения. Родителям, конечно, приятно, чтобы дети их шли на служение церкви и чтобы после их смерти остались молитвенники за них; но дети не смотрят на пастырство, как на что то высокое (имеет значение возраст, неприглядное положение пастыря, нерасполагающее к пастырскому служению и проч.), а невольники для пастырства не нужны. Необходимо сознаться, что лучшие ученики теперь все таки бегут от пастырства. Добрый тип пастыря вырабатывается только постепенно уже на приходской службе от общения с простым религиозным народом и не в короткое время, — таков тип старых священников. Какой же выход? Люди, готовящиеся к пастырству, должны избирать его свободно; пастырская школа должна быть отдельная от семинарии. В школу пастырскую должны поступать люди самоопределяющиеся; вполне добровольно; курс трехлетний. Пойдут ли в эту школу и откуда? Можно принимать из всех сословий, в возрасте от 18 до 30 лет; дать доступ в эту школу вдовым диаконам. В пастырской школе воспитываются 150-200 человек: при 700 невозможно воспитание, а только полицейские меры. Подобного типа миссионерская школа есть в Казани; наплыв желающих поступить в нее громадный. По одному из проектов, четыре класса остаются общеобразовательными с расширенной программой, с правом поступления в Университет, а два — специально богословские. Но это соединение как бы двух школ с разными целями ненормально. Упрекают школу за полицейский надзор, но в нее перенесены те же приемы воспитания, которые употребляются в семье. Да и в чем собственно выражается гнет полицейского надзора? При неравенстве возрастов, педагогическая задача необыкновенно трудна. Пастырская школа должна быть всесословная, с добровольно вступающими в нее питомцами, отдельная от общеобразовательной; из нее доступ в академию.
Другой вопрос — о наших занятиях до тех пор, пока не дадут реформы. Всех требований воспитанников мы не можем удовлетворить: напр., разрешить чтение книг бесцензурных; вред очевиден; и вообще чтение книг вещь очень серьезная. Ведь, например, не много бы было пользы, если 14-летнему мальчику дать читать сочинения даже великого Достоевского. Хотели позвать учеников: отцы знают, в чем заключается их просьба. Мы с своей стороны должны рассудить, что полезно для детей, а не только о том, что им хочется”[61].
С мнением архим. Феодора, однако, не могли согласиться некоторые преподаватели корпорации Тамбовской семинарии: “Можно ли думать, что семинария преследует двоякую цель, давая кандидатам пастырства не только богословское, но и общее образование? Общее образование имеет своей целью развитие в учащихся широты ума и благородства чувств, необходимых, как для образованного человека вообще, так, в особенности, для пастыря церкви, — необходимых не только самих по себе, но и для более глубокого и всестороннего усвоения догматических и нравственных истин христианства.
Современный пастырь не может быть только начетчиком или требоисполнителем. Он должен быть вполне образованным человеком, в котором бы общее и богословское образование сливались в одно целое православно-христианское мировоззрение. Эта цель может быть достигнута скорее и естественнее в одном, планомерно развивающем, учебном заведении, чем в двух различных, с неодинаковыми задачами и направлением. <...>
...Общее Собрание Тамбовской Духовной Семинарии не находит возможным примкнуть своим мнением к сторонникам уничтожения семинарий, а считает необходимым сохранить основной тип духовной школы, характеризуемый философско-богословским направлением образования...”[62]
Таким образом преподавательский состав Тамбовской семинарии более сочувствовал требованиям своих воспитанников, чем осуждал их. Не принимались лишь методы выдвижения этих требований. Со своей стороны преподавательская корпорация предлагала: “...в основу школьного строя должно быть положено прежде всего доверчивое отношение к корпорациям преподавателей и воспитателей, как главной силе в школе. Им ближе всего должны быть известны нужды школы и более, чем кому-либо, дороги интересы ее; да и компетентность и правоспособность их к разумному видению школьной жизни не должна бы подвергаться сомнению. Члены этих корпораций — бывший цвет духовно-школьного юношества, самым тщательным образом проверенный, и, несомненно, в общем они представляют могучую коллективную духовную силу, способную и готовую на большую и добрую работу. Если в действительности результаты их деятельности оказываются ничтожными, то именно потому, что современный строй школы создает слишком неблагоприятные для этой деятельности условия, будучи основан на принципе недоверия к корпорациям. При современном строе, как отдельные члены корпорации, так и целые корпорации являются в сущности совершенно бесправными, лишенными действительной самостоятельности и инициативы в устроении школьной жизни. Даже единогласное их решение может быть уничтожено одним почерком пера епархиального преосвященного; с другой стороны они могут быть вынуждены под собственной ответственностью осуществлять предписанное тем же почерком пера мероприятие, которое они единодушно и убежденно признают нецелесообразным и для школы не полезным. Принцип недоверия последовательно проведен и в той мелочной, иногда обидной, во всяком случае тягостной опеке, какая установлена над деятельностью преподавателей и воспитателей. Вообще теперь все школьное дело представлено единоличному усмотрению епархиального архиерея, при чем является необеспеченной бесспорная компетентность этого устроения в делах учебных и педагогических и не исключена возможность незакономерного пользования властью. В связи с этим и положение ближайших начальников семинарии — ректоров — представляется несоответствующей действительным интересам школы. Назначаемые сверху, а не избираемые на месте, они сплошь и рядом являются для школы людьми случайными и совершенно чужими, которым не понятны и не дороги местные традиции и предания, которым, поэтому весьма нелегко установить тесную внутреннюю связь с школой и корпорацией и жить с ними дружной общей жизнью на благо школы”[63]. Далее предлагалось иметь “епархиальному архиерею только общее наблюдение за ходом школьной жизни, — за тем, чтобы строго соблюдались в ней требования действующих узаконений и чтобы в действие приводились только такие мероприятия школьного управления, которые вполне и всесторонне обоснованы; но начальственное усмотрение его по отношению к школе должно быть строго ограничено.
Ближайшее наблюдение за учебно-воспитательной стороной школьной жизни, направление этой жизни согласно требованиям Устава и постановления Совета семинарии и объединение деятельности школьной корпорации на этих началах принадлежит ректору семинарии, избираемому Советом, закрытой баллотировкой, сроком на пять лет, и утверждаемому в должности Советом окружной академии. Он состоит в сане протоиерея, занимает одну из семинарских кафедр, но имеет уроков не более 12-ти”[64]. Все дальнейшие предложения Общего Педагогического Собрания сводились к обмирщению духовной школы, выборному началу и пересмотру программ, так что некоторые пункты вполне совпадали с пунктами Петиции, поданной семинаристами. Здесь еще раз обнажились глубокие противоречия между светской профессурой, с одной стороны, и ученым монашеством и епископатом — с другой.
Понятно, что архим. Феодору в таком преподавательском окружении, по своим взглядам с ним прямо противоположном, приходилось нелегко. И хотя у него и были единомышленники в стенах семинарии, вскоре к о. Ректору присоединился не только единомышленник, но и близкий друг. В начале 1906 года указом Св. Синода от 31 января на должность инспектора Тамбовской семинарии был назначен преподаватель Оренбургской духовной семинарии иером. Симеон (в миру Михаил Михайлович Холмогоров). Кандидат Казанской духовной академии 1903 г., он с 15-го авг. 1903 г. по 10 авг. 1904 года состоял профессорским стипендиатом по кафедре Патрологии в Казанской духовной академии, 10-го авг. 1904 г. был определен преподавателем Гомилетики, Литургики и практического руководства для пастырей в Оренбургскую духовную семинарию, где преподавал в тоже время библейскую историю ученикам 2-го кл. семинарии; с 15-го ноября того же года состоял членом-сотрудником комиссии по организации и ведению народных чтений, законоучителем и заведующим воскресной мужской школы для взрослых; с 28 апр. 1905 г. состоял членом-казначеем Оренбурского Епархиального училищного Совета; с 16-го октября того же года — законоучителем 7-го класса реального училища. В Тамбовской духовной семинарии о. Симеон стал преподавать Священное писание в V-I классах.