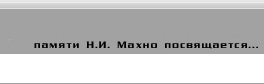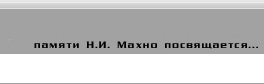|
Форумчанин
Регистрация: 25.01.2007
Сообщений: 3,053
Сказал(а) спасибо: 573
Поблагодарили 1,421 раз(а) в 905 сообщениях
|

В Краснохолмском уезде 10 марта 1918 г. уездный Совет возглавил анархист П.А. Магунов. Он же одновременно занимал пост комиссара по народному образованию. Анархист А.А. Седов занял одну из ключевых должностей — административного, финансового комисара уезда, а на некоторое время и комиссара по военным делам и охраны. В Бежецком уезде в марте - июле 1918 г. уездный исполком возглавил анархо-коммунист А.Г. Зуев, Бежецкий уездный совет (с июля 1918 г. и уездный исполком) - анархист Л.А. Алексеев. В Весьегонском уезде по решению I Чрезвычайного уездного съезда советов (28 января 1919 г.) сочувствующий анархистам Н.Д. Долгирев получил пост председателя уисполкома, анархист Мокин - пост комиссара обложения, труда, промышленности и торговли.(42)
Логика анархистов в данном случае была довольно простой. Так, Л. Алексеев утверждал: «я был занят организационной работой Советской власти, которую считаю и признаю как переходную власть к анархизму...».(43) К тому же, в отличие от имевших солидный стаж в анархистском движении, и к тому же — разбиравшихся в теории анархизма Н. Махно и А. Буйских, к руководству здесь пришли, по большей части, политически неграмотные, но весьма авторитарные лидеры. Ярким примером здесь являлся Зуев - именовавший себя «независимым анархистом-коммунистом», лишь в начале апреля 1918 г. примкнувший к анархистам. Насколько «независимо» он себя чувствовал по отношению к принципам анархизма свидетельствует следующее его заявление: «Раз анархисты стоят на принципе безвластия, то пусть они стоят, а я с ними не согласен, вот почему я независимый. Товарищи, которые говорили долой власть, мною считались как губители власти революционного пролетариата».(44) Здесь можно привести мнение бежецкого учителя А.Г. Кирсанова, достаточно хорошо характеризующее местных анархистов, которому «они представлялись не как убеждённые анархисты, а как группа молодых людей, увлечённых свалившейся на их плечи полнотой власти и не сумевших вовремя взять в руки свои низменные инстинкты».(45) В отличие от Зуева Алексеев первоначально предлагал принципиально иной путь анархического строительства — начинать с создания маленьких анархистских коммун, не занимая постов выше рядовых депутатов совета и членов исполкома.(46)
В отличие от своих коллег в Черемхово и на Украине, бежецкие анархисты после прихода к власти отбросили сам анархизм и фактически взяли курс на осуществление политики в духе «военного коммунизма» или же нэповского государственного капитализма ещё задолго до официального их провозглашения.
В основе действий анархистов Тверской губернии лежало стремление подтолкнуть социальную революцию путём экспроприации собственности буржуазии. В Краснохолмском и Бежецком уездах эта политика получила выражение в неоднократном обложении чрезвычайными налогами и штрафами (сборы составляли миллионы рублей) состоятельных слоёв уезда, главным образом — зажиточной части крестьянства и национализация в уезде промышленности и торговли. В Бежецком уезде уже с конца февраля 1918 г. по инициативе А.Г. Зуева уездный совет начал проводить меры по обложению чрезвычайными налогами местной буржуазии (всего — до 2 млн. рублей за февраль — март и плюс — сборы за право уклониться от трудовой повинности и на содержание Красной гвардии — по 100 рублей) и крестьянских волостей (по 50 — 75 тыс. рублей с каждой). Некоторые купцы, вынужденные платить по 75 тыс. рублей в месяц, были в кратчайшие сроки разорены. Ещё до начала политики «военного комунизма» в уезде была введена трудовая повинность для граждан обоего пола 18 — 45 лет. Проводились Советом и повальные обыски в домах буржуазии с целью найти спрятанные продукты и оружие.(47) Добытые средства использовались для поддержки социальной базы (как, например, - распределение среди беднейшего крестьянства товаров, реквизированных в процессе национализации краснохолмских торговых рядов). Некоторые чрезвычайные меры в Бежецком уезде были проведены также с целью обеспечить элементарное выживание населения. Так, постановление IV уездного съезда Советов о реквизиции излишков хлеба (при оставлении нормы 25 фунтов на человека в месяц) было продиктовано необходимостью помощи Чижевской волости, где голодало 1500 человек.(48)
4.03.1918 г. IV уездный съезд Советов по инициативе местных анархистов и большевиков провозгласил национализацию торговли и промышленности в Бежецком уезде. Поскольку главным носителем власти в Советской России считались Советы, которые, с точки зрения части анархистов, были социальным институтом, пригодным для перехода к анархизму, национализация вполне могла рассматриваться, как переход производства в руки народных организаций переходного типа, предшествующий социализации производства. В Под управлением комиссариата торговли и промышленности в «общенародную» собственность должны были перейти все торговые и промышленные предприятия с инвентарём и товарами. Торговля могла проводиться только в «народных лавках», подведомственным уездному и волостным советам. Итогом такой реформы стали разрушение торговли, рост цен на продукты питания, введение централизованных закупок товаров советом, продуктовых карточек, закрытие большинства магазинов, рост бюрократического аппарата, зарабатывавшего на национализации торговли.(49) Провал этой затеи был настолько очевиден, что уже 20.06 — 1.07. 1918 г. на VI уездном съезде Советов в Бежецке сам Зуев пытался выдвинуть в качестве альтернативы идею о вступлении всего населения в кооперативные организации и передаче им права закупать товары на льготных условиях.(50)
Немалую роль в выборе политики анархистов-практиков уездного масштаба сыграли условия 1918 г. (экономическая разруха, надвигающаяся гражданская война), в которых анархисты часто должны были полагаться на собственное разумение, а не на идеи классиков либертарной мысли. К тому же — далеко не все из них, видимо, разбирались в теории анархизма. Популярность местных анархистов среди крестьян-бедняков, рабочих и демобилизованных солдат, полученная вследствие радикализма лозунгов, не была подкреплена ни созданием мощной организации (федерации бежецких и краснохолмских анархистов были основаны лишь накануне свержения их власти большевиками), ни распространением анархистских идей среди населения.(51)
Практически единственой мерой, отвечавшей идеям негосударственного самоуправляющегося общества, способствующей преодолению отчуждения работников от средств прооизводства, была организация на выделенной уисполкомом земле Бежецкой трудовой сельскохозяйственной коммуны, в которую объединились 28 крестьян-бедняков (в том числе — 10 анархистов). Коммуна также не встретила симпатии со стороны крестьян, видевших в коммунарах конкурентов в борьбе за переделы земли.(52) Другим заметным практическим проявлением анархизма со стороны группы Зуева был фактически взятый курс на конфедеративные отношения с Тверью и Москвой, что выразилось в ответе Бежецкого совета на распоряжение СНК РСФСР о недопустимости самовольных контрибуций и продовольбственных налогов: «Ни Петроград, ни Москва, ни Тверь нам не указ. У нас своя республика и свои порядки».(53)
В Весьегонском уезде уже упоминавшийся нами И.Е. Мокин стал инициатором проведения экономической политики в духе государственного капитализма. Первоначально он, как и его бежецкие товарищи, проводил чрезвычайные меры в ультралевом духе (обложение чрезвычайным налогом промышленников и купцов, установление со стороны исполкома управления кассой Кооперативного союза). В то же время, будучи сторонником идей основоположника анархо-индивидуализма Макса Штирнера, Мокин исходил из того, что полное огосударствление экономики не отвечает интересам личности, поскольку только на основе взаимной эгоистической заинтересованности можно создать стимул к производительному труду. Исходя из этого, в апреле — мае 1918 г. национализированные ранее предприятия (лесопильный и кожевенный заводы) были им переведены на хозрасчёт и переданы в управление бывшим владельцам. Совет оказывал предприятиям помощь, освободив купцов от контрибуций и налогов, поставляя необходимые станки и гарантировав им определёный процент от прибыли. По мнению В.П. Суворова, опыт Мокина по строительству государственно-капиталистической модели экономического развития при переходе к НЭПу приводился в пример В.И. Лениным, ознакомившимся с ним по книге весьегонского анархо-индивидуалиста А.И. Тодорского «Год с винтовкой и плугом».(54) Близкие Мокину проекты пытался выдвигать и Алексеев. Отвергая идеи национализации торговли, он предлагал ограничиться национализацией промышленности при сохранении свободы торговли, которую следовало передать на хозрасчётных принципах получающим проценты от прибыли профессиональным торговцам со свободным графиком труда. Правда, из оборота частной торговли, полагал Алексеев, следовало изъять продовольственные товары, которые должны продаваться исключительно кооперативами, имевшим в тех местах достаточно развитую сеть (в одном Весьегонском уезде — до 150 кооперативных обществ, входивших в единый Весьегонский кооперативный союз).(55)
В силу отсутствия серьёзной поддержки со стороны широких социальных слоёв, сильной организации и политики, последовательно проводившей в жизнь идеи анархизма, местные анархисты достаточно быстро утратили свой авторитет, а затем и власть. В Краснохолмске для этого оказалось достаточно произошедшей 1 мая 1918 г. пьяной драки с попыткой со стороны Седова применить оружие, после чего анархисты Седов, Магунов и Лярский были отстранены от занимаемых должностей за дискредитапцию политики Советской власти и заменены большевиками. Похожая ситуация произошла и в Бежецке, где анархисты были свергнуты подпольным большевистским ВРК в результате стихийного бунта на митинге красноармейцев.(56)
Проводя параллель между идейной эволюцией «теоретиков» и преобразованиями, проводимыми со стороны анархистов-«практиков», следует отметить, что многие из последних (в том числе Махно, Зуев, Мокин, Буйских и многие др.) не играли большой роли в крупных анархистских организациях. Как правило, это были рядовые активисты движения, работавшие в непосредственном контакте с его социальной базой (крестьянством, рабочими, бойцами повстанческих отрядов) и потому их в большей степени отличала готовность отражать конкретные требования масс. Невысокий уровень политической подготовки, в ряде случаев — изоляция глубинки страны от влияния идеологических мэтров движения, как ни странно, имела, в отдельных случаях и такой положительный результат, как отсутствие догматизма и готовность искать пути к решению программных задач с учётом требований момента.
Кроме того, участие в военном и экономическоми строительстве в условиях гражданской войны неизбежно заставляло прибегать к мерам, нестандартным с точки зрения анархистской идеологии. Всё это приводило к серьёзным отклонениям анархистов-«реформаторов» от кристальной чистоты теоретиков. Так, Н.И. Махно уже в апреле 1920 г. разработал проект «Декларации махновцев», который отличался от предыдущего провозглашением переходного периода в виде «диктатуры труда» в форме власти Советов и управления экономикой со стороны профсоюзов. Однако ни «Декларация» Махно, ни какие-либо другие идеи этатистской переходной модели на пути к анархо-коммунистическому обществу, не были приняты оппозиционной к большевистской диктатуре частью анархистов. Показательно, что проект переходного периода Махно был отвергнут его полевыми командирами.(57)
Здесь необходимо отметить, что чаще всего противостояние «статусному» анархизму не носило осознанного характера и осуществлялось в практическом, а не в теоретическом плане. Ведь повстанческие движения, находившиеся под безраздельным руководством анархистов, такие как махновщина, алтайское восстание 1920 г., проходили под анархистскими лозунгами. Так, в программных документах и листовках алтайских повстанцев прямо говорится о борьбе за «вольные трудовые федерации», «анархию», «безвластие».(58) В программных документах, публицистических, теоретических и пропагандистских произведениях участников махновского движения проводятся лозунги «анархической коммуны», «безвластных» советов» («не властных», а «совещательно-исполнительных» органов), «безвластного советского строя», «Украинской Безвластной Трудовой Федерации» и т.п.(59) Тем не менее, во многих случаях повстанческие движения за «третью революцию», во главе которых стояли анархисты, не провозглашали открыто свою приверженность анархистским идеям, ограничиваясь достаточно популярными среди крестьян требованиями: полновластие Советов, избранных на альтернативной демократической основе при пропорциональном представительстве; свобода слова, печати и собраний для социалистических партий; свобода собраний, рабочих и крестьянских организаций; ликвидации органов ЧК и политического контроля, сокращение государственного аппарата; отмена продовольственной развёрстки и введение свободного продуктобмена города и деревни; свобода сельскохозяйственного и кустарного производства без наёмного труда.(60)
Примечания:
(1) Голованов В.Я, Нестор Махно. М. 2008; Канев С.Н. Октябрьская революция и крах анархизма (борьба партии большевиков против анархизма, 1917 — 1922). М. 1974; Кривенький В.В. Анархисты-коммунисты // Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия. М. 1996. С. 36 — 38; Его же. Анархисты-синдикалисты // Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия. М. 1996. С. 38 — 40; Сапон В.П. Терновый венец свободы. Либертаризм в идеологии и практике российских левых радикалов (1917 — 1918 гг.). Нижний Новгород. 2008; Скирда А. Нестор Махно, казак свободы — 1888 — 1934. Гражданская война и борьба за вольные советы в Украине 1917 — 1921. Париж. 2001. С. 32; Суворов В.П. Анархизм в Тверской губернии: вторая половина XIX в. - 1918 г. Дисс. на соиск. уч. степени канд. ист. наук. Тверь. 2004; Штырбул А.А. Анархистское движение в Сибири в 1-й четверти XX века: Антигосударственный бунт и негосударственная самоорганизация трудящихся: теория и практика. Ч. 2. Омск. 1996; Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания. 1917 — 1939 гг. М. 1998; Его же. Анархия — мать порядка. Между красными и белыми. М. 2005. Под социальными преобразованиями в этих исследованиях, как правило, понимается комплекс реформ, проводимых политическими силами на подконтрольных им территориях. См.: Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. С. 3.
(2) Канев С.Н. Ук. соч.; Сапон В.П. Ук. соч.; Скирда А. Ук. соч.; Суворов В.П. Ук. соч.; Штырбул А.А. Ук. соч. Ч. 2; Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент; Его же. Анархия — мать порядка.
(3) См., например, Корн М. [Гольдсмит М.И.] Революционный синдикализм и анархизм. Борьба с капиталом и властью // Образ будущего в российской социально-экономической мысли конца XIX — начала XX века. М. 1994. С. 348 — 351; Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М. 1990. С. 520 — 525.
(4) Корн М.[Гольдсмит М.И.] Революционный синдикализм и анархизм. Лондон. 1907; Кропоткин П.А. Наше отношение к крестьянским и рабочим союзам // Листки «Хлеб и воля». 1906. № 2. 14 ноября; Новомирский Д. [Кирилловский Я.И.] Из программы синдикального анархизма. Б.м. 1907; Оргеиан К. [Гогелия Г.И.] О рабочих союзах. Лондон. 1907.
(5) Гончарок М. Очерки истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм). Иерусалим. 1998. С. 217 - 218. Идеи Мэрисона подверглись радикальной критике, в том числе, и со стороны российских анархистов. Как пример точки зрения оппонента см.: Рощин. [Гроссман И.С.] На старые темы. Заметки // Рабочий мир. Год II. Февраль 1914 г. Серия II. № 1. С. 7 — 9.
(6) Пато Э., Пуже Э. Как мы совершим революцию. Пг., М. 1920; Производственный синдикализм: (Индустриализм): сб. статей. М. 1919. Этатистские элементы в этих проектах отмечали и комментировавшие их оппоненты. Мнение анархистов о взгляде на будущее в программах ВКТ и ИРМ, аналогичное изложенному нами см.: Кропоткин П.А.Предисловие // Пато Э., Пуже Э. Как мы совершим революцию. Пг., М. 1920. С. 6, 7, 8; Шапиро А. Предисловие // Производственный синдикализм: (Индустриализм): сб. статей. М. 1919. С. 3 — 11.
(7) Боровой А.А. Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм. М. 1906. С. 88.
(8) Ветров И. С. Анархизм, его теория и практика. СПб. 1906. С. 11 – 12.
(9) Кропоткин П.А. Анархия, её философия, её идеал. М. 1999. С. 704 – 707, 712, 717, 758; Маркин В.А. Неизвестный Кропоткин. М. 2002. С. 355, 370.
(10) ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. ед. хр. 733. Л. 1. См. там же: “Причём я лично считаю, - писал он, - что везде д[олжен]. б[ыть]. договор (как британские тред-юнионы на своих конгрессах), а не указ”.
(11) Раевский [Фишелев Е.] О революционном синдикализме // Голос труда. Год V. № 46. 30 июля 1915 г. С. 2; Он же.Анархо-синдикализм и критический синдикализм. Нью-Йорк. 1919. С. 6, 67 – 68.
(12) [Волин] Неизбежное началось // Голос труда. № 133. April 13. 1917. С. 1; Его же.Конец ли это? // Голос труда. 20 октября (2 ноября) 1917; Революция и её задачи // Коммуна. № 1. 17 марта 1917. С. 1 — 2. Характерно, что и в работах ряда историков процессы радикальной демократизации всех сфер общественной жизни получили наименование «революция самоуправления» и «Великая российская либертарная революция». См.: Сапон В.П. Указ. соч. С. 8 — 9; Чураков Д.О. Русская революция и рабочее самоуправление. 1917. М. 1998. С. 7; Его же. Самоуправление рабочих в русской революции // Община. Независимый социалистический альманах. 1998. № 51. С. 5.
(13) Рабочий путь. № 1. С. 7.
(14) Атабекян А.М. Перелом в анархическом учении. М. 1918. С. 3; Его же. Основы земской финансовой организации без власти и принуждения. М. 1918. С. 5 - 13; Его же. Социальные задачи домовых комитетов. М. 1918. С. 10, 26 — 27; Его же. Против власти. М. 1918. С. 73.
(15) Гроссман-Рощин.И. Октябрьская революция и тактика анархистов-синдикалистов // Голос труда. 1919. ? 1. С. 10.
(16) Нерсей. А.Я. Профессиональное движение и анархизм // Вольная жизнь. № 9. Январь 1921. С. 9 – 10; Головинский. М. "Карточный коммунизм" // Вольная жизнь. № 1. Май - ноябрь 1919. С. 18 - 19.
(17) Скирда А. Указ. соч. С. 32; Суворов В.П. Указ. соч. С. 232, 276; Штырбул А.А. Указ. Соч., Ч. 1. С. 144, 166; Ч. 2. С. 190.
(18) Скирда А. Указ. соч. С. 37.
(19) Там же. С. 41.
(20) Там же. С. 32.
(21) Подшивалов И.Ю. Вожак черемховских шахтёров // Вся неделя. 2.08.2003. С. 6; Штырбул А.А. Ук. соч. Ч. 1. С. 146.
(22) Суворов В.П. Указ. соч. С. 232 — 233.
(23) Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. С. 63 — 64; Подшивалов И.Ю. Указ. соч. С. 6; Штырбул А.А. Указ. соч. Ч. 1. С. 146.
(24) Скирда А. Указ. соч. С. 33 — 35; Суворов В.П. Указ. соч. С. 232 — 233.
(25) Скирда А. Указ. соч. С. 33 - 34.
(26) Штырбул А.А. Указ. соч. Ч. 1. С. 144; Ч. 2. С. 183 — 184.
(27) Там же. Ч. 1. С. 144; Ч. 2. С. 183 — 185.
(28) Там же. С. 38; Суворов В.П. Указ. соч. С. 233.
(29) Скирда А. Указ. соч. С. 36.
(30) Там же. С. 73.
(31) Штырбул А.А. Указ. соч. С. 49.
(32) Скирда А. Ук. соч. С. 67 — 69.
(33) Там же. С. 69, 74.
(34) Штырбул А.А.Ук. соч. Ч. 2. С. 14.
(35) Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. С. 14 — 16; Скирда А. Ук. соч. С. 139.
(36) Там же. С. 135, 137 — 139; Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. С. 62.
(37) Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. С. 210 — 211.
(38) Скирда А. Указ. соч. С. 134 — 136, 139; Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. С. 61, 67.
(39) Там же. С. 137, 139 — 140; Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. С. 61.
(40) Скирда А. Указ. соч. С. 138.
(41) Шубин Анархистский социальный эксперимент. С. 78 — 79.
(42) Суворов Ук. соч. С. 278, 286, 320, 323.
(43) Там же. С. 279.
(44) Там же. С. 282.
(45) Там же. С. 351.
(46) Там же. С. 351.
(47) Там же. С. 337.
(48) Там же. С. 328.
(49) Там же. С. 328 — 331.
(50) Там же. С. 343.
(51) Там же. С. 264, 348 — 349.
(52) Там же. С. 320, 333; Суворов В.П.Производственный федерализм П.А. Кропоткина и попытки его осуществления на Тверской земле (к истории создания и деятельности Бежецкой трудовой земледельческой коммуны) // Пётр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации. Спб. 2005. С. 207 — 209.
(53) Суворов В.П. Анархизм в Тверской губернии. С. 336 - 337.
(54) Там же.С. 315 - 317.
(55) Там же. С. 329.
(56) Там же. С. 325, 357 - 358.
(57) Шубин А.В. Махно и махновское движение. М. 1998. С. 146 – 147.
(58) Штырбул А.А. Указ. соч. Ч. 2. С. 46 - 47, 81 — 83.
(59) Анархисты. Документы и материалы. Т. 2. С. 351 — 351, 354 — 361; Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. С. 205 — 206, 290 — 291, 487.
(60) Ермаков В.Д. Указ. соч. С. 111 — 112, 114 — 115; Штырбул А.А. Указ. соч. Ч. 2. С. 70 — 71, 83, 91; Эврич П. Восстание в Кронштадте. 1921 год. М. 2007. С. 76 — 77; Ященко В.Г. Антибольшевистсмкое повстанчество в Нижнем Поволжье и на Среднем Дону: 1918 — 1923. М. 2008. С. 77.
|